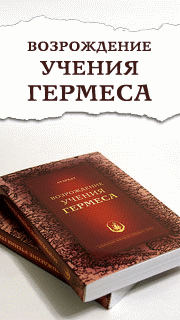ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ ФАУСТА
Акт I
СЦЕНА ПЕРВАЯ
Небеса. Господь. Появляется Мефистофель
Господь
Ты снова здесь? Пора б угомониться.
Моё терпенье хватит истязать.
Мефистофель
Когда б я спал, то мог бы вам сказать,
Что мне покой в ночных кошмарах снится.
Я весь в трудах, и роздыху не знаю.
У нас, чертей, всегда довольно дел.
Покорно принимая свой удел,
Я вам опять о том напоминаю.
Господь
Каков сарказм!
Мефистофель
Я болен им, увы!
Я там, внизу, достаточно скитался,
И чувства все давно уже мертвы:
Один сарказм пока ещё остался.
Смешно сказать, — но им я дорожу;
Его ценю, другого не имея.
Как нищий — грош, в руке его держу,
Разжать кулак трясущийся не смея.
Хоть я и чёрт, но я — живая тварь,
И не хочу совсем лишиться чувства.
Сперва сарказм читал я как букварь,
Потом вознёс на уровень искусства.
Он заменил мне всё: и страх, и страсть,
И гнев, и скорбь, и смех, и грусть, и жалость.
Из всех богатств теперь осталась малость, —
И как бы ей однажды не пропасть.
Господь
Довольно.
Мефистофель
Да. Довольно о себе.
Увлёкся я, — и в том винюсь. К тому же,
Моё нутро вы знаете не хуже,
Чем знаю сам. В начертанной судьбе
Не изменить, конечно, ничего.
Других терзавший сам терзаем будет.
Судья однажды и себя осудит
Веленьем беспристрастья своего.
Господь
Ты дерзок, чёрт.
Мефистофель
Что ж делать? Я таков.
Зато к вершенью Божьему причастен.
Таков закон: кто над другими властен,
Тот сам невольник тягостных оков.
Господь
Что скажешь Мне? Зачем пришёл опять?
Мефистофель
Зачем пришёл, вы знаете и сами.
А если нет, — нетрудно и узнать:
Всё лучше, чем жонглировать словами.
Пришёл сказать, что мир подлунный тот
За век не изменился ни на йоту.
Адамов род по-прежнему живёт,
Страдая и злодействуя в охоту.
Поистине, скучнее места нет!
Из века в век — всегда одно и то же.
Один ли год иль десять тысяч лет, —
Всё новое на прежнее похоже.
Слепая верность и слепая месть;
Любовь, разврат и родовые схватки;
Тот продал честь, а тот погиб за честь…
Совсем не изменяются порядки.
Кто ищет радость, тот находит грусть;
Кто ищет счастья, тот находит муки…
Заранее всё зная наизусть,
Я там томлюсь от безысходной скуки.
Я из плеяды действенных натур;
Я — творчества взыскующая личность.
Ценителю изысканных фигур
Всегда претит унылая привычность.
Дух отрицанья должен отрицать, —
И я тружусь, в десятый раз, и в сотый,
И в тысячный, и снова, и опять
Кляня однообразие работы.
Не знаю, право, кто из нас злодей:
Губитель душ без различенья сорта,
Иль скопище бездумное людей,
Способное замордовать и чёрта.
О, вы — ловкач меня хитрей стократ.
Подобное ещё придумать надо:
Сослать меня туда, где сущий ад,
Чтоб их обречь для огненного ада.
И я сюда пришёл передохнуть,
Под благовидным, кажется, предлогом
С ревизией в инферно заглянуть
И лично отчитаться перед Богом.
Господь
Давно привыкнув к выходкам твоим,
Я не сержусь за вольности такие.
Ты осуждён на тяготы земные, —
И вскорости опять вернёшься к ним.
Но прежде слушай. Тут пеняешь ты
На полчища мучителей бездумных;
Но есть средь них и толика разумных,
Чьи головы и души не пусты.
Мефистофель
Поверьте мне: таких уж точно нет.
Когда б средь них разумный отыскался
Один хотя б, то разве б мир остался
Без перемен на столько тысяч лет?
Господь
Я говорю, что там такие есть.
Мефистофель
Ну, коли так, — беру слова на веру.
Сгубить таких почёл бы я за честь.
Кого ж вы мне укажете, к примеру?
Господь
Есть некто Фауст.
Мефистофель
Доктор?
Господь
Доктор.
Мефистофель
Мне
Сей человек давным-давно известен.
Отнюдь не глуп, старателен вполне,
Довольно смел и безоглядно честен.
Но это всё — не больше, чем налёт;
Лишь видимость; простая позолота.
Под ней, внутри, животное живёт.
И коль придёт животному охота,
Пробивши драгоценную фольгу
Оно себя бесстыдно явит свету.
Я утверждать уверенно могу:
В нём ничего особенного нету.
Я проверял подобных на излом, —
И всякий раз с презреньем убеждался,
Что если кто и шёл на бой со злом,
Тот первым мне в силки и попадался.
Подобное случается не вдруг,
Но неуклонно и закономерно:
Бегущий скверны совершает круг —
И всё равно всегда кончает скверно.
Господь
Пусть ты и прав, — но Фауст не похож
На тех, которых ты губил играя.
Он не святой, но, может статься, всё ж
Со временем достоин станет рая.
Мефистофель
О, рай, увы, не слишком населён.
В аду жильцов поболе, как известно.
Пропорция «один на миллион»,
Поистине, для рая слишком лестна.
Я знаю человечество. Оно
Совсем не то, что кажется отсюда.
Глядишь с небес — сплошные агнцы; но
Глядишь вблизи — то Каин, то Иуда.
Таков и Фауст, — в глубине, внутри:
Запоры сбей — и всё наружу хлынет.
Господь
А ты его поближе рассмотри, —
И твой запал немного поостынет.
Что скажешь ты, коль вскорости в раю
Я обрету его святую душу?
Мефистофель
Я вам своё ручательство даю,
Что планы эти начисто разрушу.
На этот раз я подвернулся кстати:
Вам надобно умение моё.
Разит верней искуса остриё,
Когда на нём Всевышнего печати.
Господь
Ты знаешь, чёрт, что нет преодоленья,
Коль нет препон. Где Фаусту идти,
Там надобно препоны возвести, —
И Я даю на это позволенье.
Мефистофель
Адамов род клевещет на чертей,
Виня бедняг в интригах и коварстве;
А школа заковыристых затей —
На небесах, в святом Господнем царстве.
Кто б мог ещё такое учинить?
Какая неприкрытая насмешка:
Людей заставить чёрта в том винить,
В чём этот чёрт — не более чем пешка.
Прекрасный план: использовать меня,
Чтоб Фауста поторопить немножко;
Чтоб я же сам, искусами маня,
Ему до рая вымостил дорожку.
Я подчиняюсь: воля ваша. Но
Взамен прошу одной уступки малой.
Раз с Фаустом уже предрешено,
То вы и не откажете, пожалуй…
Господь
Ты вздумал торговаться? Говори,
Чем Я могу смягчить твою досаду.
Мефистофель
Я предлагаю честное пари,
Где Фауст уподобится закладу.
Я вижу в нём вполне обычный сор,
И говорю, что он за мной низыдет
В мои владенья. Ваш всезрящий взор
Пред ним стезю обратную провидит.
Положим так: коль верх одержит он
(Что, видимо, вне всяческих сомнений),
И будет в рай с триумфом вознесён, —
Я вас избавлю от своих вторжений,
И обязуюсь больше никогда
Не приходить за отдыхом сюда.
Кто с Господом осмелится тягаться?
Но тварь Его — противник мне подстать.
Я эту тварь умею искушать.
И если вдруг, внезапно, может статься,
Я верх возьму (как, впрочем, и всегда),
И доктор сей моей добычей будет,
И в ад падёт, — пари за мной тогда,
И мне Всевышний выигрыш присудит.
А выигрыш желаемый таков:
За вины милосердное прощенье,
Освобожденье от земных оков
И в горний край скитальца возвращенье.
Господь
Ты видишь сам: пари несоразмерно.
Я возмутился б, если бы не знал,
Что ты уже, несчастный, проиграл.
Мефистофель
Но если так, раз всё настолько верно,
Тогда — пари?..
Господь
Когда желаешь ты
В себе сгубить последние мечты, —
Пусть будет так. Ты это заслужил,
Раз Фауста обречь задумал аду,
И Господу бесстыдно предложил
За это зло установить награду.
Ты перешёл известную черту:
И чёрту не дозволено такое.
Мефистофель
Я здесь уместным повторить сочту:
Хоть я и чёрт, но существо живое.
Я — падший дух, я — часть недобрых сил,
Я облекаюсь в адские одежды;
Но даже я надежду сохранил, —
Вернее, проблеск крохотный надежды.
Надежда — жизни трепетная часть.
Они — одно. И я спрошу: не вы ли,
Используя Божественную власть,
Свои творенья жизнью наделили?
Всё, что живёт, — надеется. А значит,
Надеяться дозволено и мне.
Субстанция купается в огне, —
Но вечный Дух по горним высям плачет.
Что ж до черты… Её я преступил,
Поскольку путь добра чертям заказан.
Я деяньем определённым связан, —
И то, что мог, в пари и применил.
Ценою тьмы хочу прорваться в свет.
Чертям туда иной дороги нет.
Господь
Коль хочешь ты, то так тому и быть.
Я Фауста в твою влагаю руку.
Теперь спеши на деле применить
Во весь размах бесовскую науку.
От Фауста дальнейшее зависит.
С тобой в борьбе сойдясь наедине
Он, победив, поднимется ко Мне, —
Иль сам падёт, но тем тебя возвысит.
Мефистофель
Удаляясь
Я бросил жребий. Нет назад пути.
Моя надежда мне явила ныне
Последний шанс спасенье обрести
И вновь взойти к утраченной вершине.
Он убеждён, что я познаю крах, —
А опыт мой мне говорит иное.
Ведь человек, по сути, — только прах,
И не ему соперничать со мною.
Я чую дрожь неясного томленья:
Сквозь слой золы, что за столетья лёг,
Живого чувства брезжит огонёк…
Итак, вперёд. Ни мига промедленья!
СЦЕНА ВТОРАЯ
Кабинет Фауста. Фауст сидит у стола, на котором находятся книги, свитки, пергаменты, принадлежности для письма и горящая свеча
Фауст
Я не могу сегодня спать.
Хотя уже и поздний час,
Тоска жестокая опять
Сомкнуть не позволяет глаз.
В вечерней мгле, во тьме ночной,
В лучах зари и в свете дня, —
Она всегда, везде со мной;
Она преследует меня.
Как будто сотни тысяч розг
Я получаю каждый миг;
Кипит душа, пылает мозг,
А тело сдерживает крик.
Я — доктор лекарских наук,
Читатель медицинских книг:
Но свой мучительный недуг
Чрез философию постиг.
Калёным лезвием ума
Себя на чувства я разъял, —
И разошлась глухая тьма,
И света проблеск засиял.
Я познавал профессию свою
С младенчества. Отцовские заботы
Мне были первой школой мастерства.
В свою лабораторию, бывало,
Он брал с собою сына. И тогда
Я, несмышлёныш, сердцем замирая,
Едва дыша, во все глаза глядел,
Как он священнодействовал, реторты,
Весы и перегонные кубы
Себе служить чудесно заставляя.
Я видел, как отец приготовлял
Растворы, порошки, экстракты, мази,
Сверяясь с манускриптами, когда
Рецептов сложных требовало дело.
Его наука волшебством была,
А сам он был великим чародеем.
Я чуял чудо; всё вокруг меня
Его лучи как будто испускало.
Я чувствовал пьянящий аромат
В лекарствами пропахшем помещенье.
При мне отец и пользовал больных,
То у себя несчастных принимая,
То посещая скорбные одры
В моём сопровождении, доверив
Рукам ребёнка ношу поскромней.
Я видел язвы, раны и ушибы,
Укусы псов, ожоги, лишаи;
Я видел немощь, судороги, рвоту;
Я обонял гниющих членов смрад;
Я слышал стоны, жалобные крики,
Предсмертный хрип и безнадежный плач.
Отец хотел, чтоб я ещё ребёнком
Увидел человеческую боль,
Узнал глубины горечи и страха.
Он говорил: «Запомни крепко, сын:
Непрочно человеческое тело.
Как будто малость: ранка иль нарыв,
Не та еда иль безобидный насморк, —
А плоть, глядишь, уже пронзает боль,
Сжигает жар, ломает лихорадка.
Жизнь угасает в считанные дни:
Был человек — не стало человека.
Но кроме тела есть ещё душа.
Она нежней и много беззащитней,
Чем наша плоть. Её коснись слегка —
И нанесёшь болезненную рану.
Страшнее нет страданий на земле,
Чем боль души. Она терзает тело,
И разум на кровавые куски,
Как дикий зверь, всечасно раздирает.
Душа не может даже умереть,
Чтоб так хотя б избавиться от пытки.
Душа страдает, изнывает плоть,
И разум гаснет, не снеся мучений.
Болезни тела — страшная беда;
Но боль души — беда стократ страшнее.
Когда б я мог лекарство изобресть,
Чтоб исцелять израненные души,
Я б бросил всё, и стал бы только их
Одни целить: в том было б больше проку.
Но нет лекарств от горестей души.
Цели ж, мой сын, хотя бы то, что можно.
Стань лекарем; иди моим путём.
Что ж до души, то нет вернее средства
Её спасти от боли и невзгод,
Чем береженье. Ты чужую душу
Не уязвляй, безжалостно не рань.
Не сбережёшь — так после не излечишь».
Я помню так отцовские слова,
Как будто то вчера со мною было.
Я помню всё: как радовался он,
Когда ему леченье удавалось,
И как скорбел, когда не мог спасти
Кому-то жизнь. И ныне ясно вижу:
Вот он сидит, склонившись над столом,
Обхватывает голову руками,
И две слезы, стекая по щекам,
Спешат туда, откуда нет возврата.
Отец учил меня всему, что знал, —
И первыми пособиями были
Мне манускрипты старые его.
Потом — учёба в университете.
Тяжёлый труд для тела и ума,
Наставников пронзительные взоры,
Землячества, забавы и вражда.
Я всё прошёл, — и степень бакалавра
Я получил заслуженно. Потом,
Спустя немало, докторскую шапку
И мантию надели на меня.
Прошли года. От прежнего студента
Осталось имя. Ныне б не узнал
Меня отец, уже давно почивший.
Я практикую и преподаю,
И пользуюсь немалым уваженьем
Средь горожан, окрестных поселян,
Среди коллег, среди своих студентов.
Казалось бы, чего ещё желать?
А мне тоскливо. Словно бы удушье
Сжимает грудь. Отцовские слова
Звучат в ушах мелодией печальной.
Да, я сберёг в себе его завет.
Да, я живу в довольстве и почёте.
Но что вокруг? Имеющий глаза
Да ужаснётся. Мир смертельно болен.
Везде жестокость, алчность, зависть, ложь, —
А добродетель редкостней алмазов.
Иному тело — только инструмент
Для наслаждений; а другой не может
Себя хотя бы просто прокормить.
Один гниёт от мерзостных болезней,
Другой объелся, — мучает запор,
Ещё один спалил на тяжбах нервы,
Тому достался ножевой удар,
Того поторопил наследник ядом,
Того пытали, этому дружки
Переломали рёбра в потасовке,
А тот, упившись, голову расшиб,
Или замёрз, зимой в сугроб свалившись.
Да что тела… На то и доктора,
Чтоб их целить. Когда заглянешь глубже,
Узришь иное. Я увидеть смог
Причину всех помянутых увечий.
Она — в душе. Когда больна душа,
Тогда и телу не остаться здравым.
Когда война калечит, морит, жжёт,
То это — душ безжалостная бойня,
А после — тел. Когда на площадях
Костры пылают — то сжигают души,
А не тела. Когда кого-нибудь
Наглец унизил, оскорбил, ограбил,
Или жестоко подшутил над ним,
Иль обманул, иль просто не уважил,
То это — преступление души,
Больной души, безумной и несчастной;
Другой же — горе, страх, увечье, боль.
Когда властитель свой народ тиранит,
Поборами, неправедным судом,
Военной силой давит, — разве это
Несчастье тел? То буйствует душа,
Забыв себя, ослепнув, погрузившись
В водовороты адовых страстей.
Она подобна бешеному зверю,
И от неё страдают сонмы душ;
А беды тел — лишь следствие. Развратник,
Пьянчуга, вор и подлый клеветник
Не телом ведь привержены пороку:
Оно мертво и пусто без души,
И ни желать, ни действовать не может.
По всей земле бушует море зла;
В нём человек — беспомощная щепка.
Страданьем переполнен этот мир;
Оно уже захлёстывает небо.
Во время оно мир познал потоп:
Теперь его и небеса познают.
Я честно жил. Как мог, целил тела.
Но беды душ одной огромной раной
Мне сердце изувечили. Оно
Кровоточит, смертельною тоскою
Мне полня дни и ночи. Почему?
Зачем? За что? Откуда? Неужели
Таков на самом деле человек?
Не может быть! Немыслимо! Не верю!
Болезни поражают организм
Здоровый. Проявленье аномалий
В сравненье с нормой видимо. Когда б
Душа была такою изначально,
То не страдала б, чувствуя себя
В своей стихии. Жизнь червей могильных,
Во тьме и тлене, хороша для них,
Но не для пчёл. Отсюда заключаю,
Что беды душ имеют в том исток,
Что человек своё предназначенье,
К несчастью, безрассудно позабыл.
Кто он такой? Зачем живёт? Осмелюсь
Я организму уподобить мир:
Так где же в нём для человека место?
О, если б знал хотя бы кто-нибудь
Об этом правду, — мир бы изменился,
И человек, найдя свою стезю,
Познал бы счастье. Я ответ пытался
Найти в Писаньях, в книгах мудрецов,
В загадочных и запрещённых текстах.
Немало книг, пергаментных листов,
Тетрадей, свитков я собрал. Годами
Копался в них, штудировал, искал,
Корпел ночами, сравнивал, желая
Извлечь рациональное зерно.
Поистине, сизифова работа!
Лишь только вспомню — занимает дух.
Поочерёдно берёт лежащие на столе книги, свитки и листы, читает вслух
«Вначале небо создал Бог и землю.
Земля ж была безвидной и пустою,
Над бездной тьма. И Дух носился Божий
Над водами. Потом речёт Создатель:
Да будет свет. И свет явился тотчас.
И Бог узрел, что свет хорош; немедля
Его Он отделил от тьмы кромешной
И днём назвал, и ночью тьму нарёк Он.
Проходит вечер и минует утро:
Так первый день творения вершится».
«Люди, вы слышали, сказано: «Око за око,
Зуб же за зуб». Ну а Я возвещаю иное:
Злу не противься. И если ударят, смиренно
Щёку другую подставь. И когда за рубашку
Станут судиться с тобою, ты верхнее платье
Вместе с рубашкой отдай. И когда принуждают
Поприще с кем-то идти, то иди, не противясь,
Дважды по столько. Просящему дай, не жалея;
Не отвращайся, коль кто-то о займе попросит.
Велено ближних любить, а врагов ненавидеть.
Я же теперь говорю вам: врагов возлюбите,
Вас проклинающих благословляйте с любовью,
Вас ненавидящих благотворите всечасно,
За обижающих вас и гонящих молитесь.
Люди, да будете вы Вседержителя детьми.
Солнце восходит, покорно Его повеленью,
Добрым и злым одинаково свет изливая;
Он посылает дожди на неправедных так же,
Как и на праведных, не воздвигая различий».
«Сущность религии этой, которой нам следовать должно,
Составит история вкупе с правдивым пророческим словом
О домостроительстве Божьем спасения рода людского,
Которому должно изведать великое преображенье
И быть приготовленным к жизни, что вечной зовётся. Коль скоро
Это и будет предметом нашей возвышенной веры,
То образом жизни, согласным с заветами вечными Бога,
Ум наш очистится скоро и станет способным к познанью
Священных духовных предметов, которые суть не былое
И суть не грядущее, — вечно и равно они пребывают,
Не зная ни в чём изменений; так разум наш станет способным
К познанью единого Бога, и Сына, и Духа Святого».
«Бог, пожелавши сколь возможно больше
Мир уподобить лучшему предмету
Из мыслимых, который совершенней
И краше прочих, так его устроил,
Как существо единое живое,
Которое в себе самом содержит
Все по природе сродные созданья».
«Вполне понятно, что имеется начало
И что не беспредельны сущего причины —
Ни в смысле ряда беспредельного, ни с виду.
И правда, ведь одно не может из другого
Как из материи возникнуть беспредельно:
Плоть из земли, земля из воздуха, к примеру,
А воздух из огня, и так без остановки;
И так же то, откуда начато движенье,
Здесь беспредельного не составляет ряда,
К примеру так, что человек введён в движенье
Средой воздушной, воздух — солнцем, и враждою —
Оно само, и так опять без остановки.
Подобным образом не может в бесконечность
И цель идти — хожденье это для здоровья,
То — ради счастья, счастье тоже для чего-то,
Так беспрестанно всё, одно ради другого.
И с сутью вещи бытия всё так же точно.
Ведь в отношенье средних звеньев, вне которых
Есть что-то, что назвать последним можно, также
Есть что-то, что ему предшествовало, кое
Того последнего является причиной.
И если нам сказать теперь необходимо,
Что же из этих трёх является причиной,
То мы тогда укажем первое, — уж верно,
Что не последнее: оно в конце, и, значит,
Оно причиной быть не для чего не может;
Но и не среднее, ибо оно причина
Для одного (при сём значенья не имеет,
Одно ли среднее, иль средних будет больше,
Конечным будет их число иль бесконечным).
У бесконечного в конкретном этом смысле
Иль вообще у беспредельного все части
Есть части средние, до той, что видим ныне;
А нету первого, так нету и причины».
«Душа по природе свободна от всякого зла,
Что люди творят и от коего сами страдают.
Но если сужденья и мненья — души атрибут,
То как утверждать, что душа совершенно безгрешна?
Ведь ложное мненье и следствия мненья сего —
Источники зла. Зло исходит из худшего в людях,
Поскольку они пребывают в смешенье всегда:
Коль худшее в нас торжествует над лучшим победу,
Тогда мы и злы. И тогда возгораются в нас
Дурные желанья и страсти, и образов лживых
Является сонм; ну а то, что привыкли считать
Мы мнением ложным, есть вольное воображенье.
Оно не желает себя рассужденьем трудить,
И часто за ним мы спешим, убеждённые худшим».
«Во имя Аллаха, что милостив и милосерд!
Аллаху хвала, хвала Властелину миров,
Царю в день суда, что милостив и милосерд!
Тебе поклоняясь, тебя умоляем помочь!
Веди нас прямою дорогой, дорогою тех,
Которым ты благодеянья свои оказал, —
Не тех, что под гневом, и не заблудших путём».
«Затем меня подъемлят те мужи
И переносят на седьмое небо.
И я узрел безмерно яркий свет
И воинство архангелов великих,
Бесплотных сил, владетельных начал,
Властей и херувимов, серафимов,
Престолы зрел, и десять зрел полков
Я многоокого светлостоянья.
Я убоялся и затрепетал.
А те мужи опять меня подъяли
И тотчас среди воинства ввели,
И говорят: «Дерзай, Енох, не бойся!».
И показали мне издалека,
Как на своём престоле высочайшем,
Сияя, восседает наш Господь».
«После спросил я: «О Господи, славу какую
Прежде имел Сатана перед Небесным Отцом
До своего низверженья?». Господь же ответил:
«Слава была такова в те времена у него,
Что добродетелей горних он был властелином.
Я же тогда восседал рядом с Отцом. Сатана
Вещи творил, подражая Отцу. Он спускался
В глубь преисподней с небес, после ж опять восходил
В выси, к престолу Отца, недоступного взорам.
Видел он славу Того, Кто подвигал небеса,
И поместить обиталище над облаками
Дерзко замыслил своё, чтобы сравняться с Творцом».».
«Едва Господь, моим мольбам внимая,
Дал позволенье мудрой песне смолкнуть,
Как снова он в моё влагает сердце
Глас радостный, чтоб я могла поведать
Речённое Всевышним. Содрогаясь
Всем телом, говорить я начинаю.
Что говорю — не знаю: но от Бога
Мои проистекают прорицанья.
Настанет время — будут сотрясенья,
И молнии палящие, и громы,
И ржавчина проступит на растеньях,
И в мире будут бесноваться волки;
Кровавые убийства совершатся
И гибель жизней человечьих; после
Падут быки, и козы, и бараны,
Ослы и прочий скот четвероногий.
И брошенные пашни в запустенье
Тогда придут, и плод не уродится.
В те времена везде войдёт в обычай
Рабам подобно продавать свободных
И совершится разграбленье храмов.
Десятое настанет поколенье,
И Колебатель и Молниевержец
Тех идолов, что прежде почитались,
Жестокому подвергнет сокрушенью,
И Рима семихолмного величье
Он потрясёт, и уничтожит разом
Бессчётные, несметные богатства:
Поглотит их огонь Гефеста мощный.
С небес высоких кровь потоком хлынет».
«Израиля Кнессет таки слова говорит:
«В галуте Египта я сплю, ведь мои сыновья
В мучительном рабстве. Но бодрствует сердце моё,
Чтоб их оберечь, чтоб в галуте не пали они».
«О Голос! Я слышу, как друг мой стучится ко мне» —
То Благословенный, который однажды сказал:
«Я вспомню союз Мой». «Ты щель для Меня приоткрой
С игольное ушко, Я ж неба открою врата».
«Истинно, действительно и верно.
То, что ниже, верхнему подобно,
Верхнее ж — ему, единства ради.
Всё из одного проистекает;
Вещи все с одной единой вещи
Начались посредством примененья.
Мать — Луна, отец же — Солнце; ветер
Выносил, земля его вскормила.
Здесь отец «Телема». Силой полной
Он владеет, обращённой в землю.
От огня отделишь землю ловко,
Тонкое от грубого отделишь.
От земли он к небу вознесётся,
После же опять нисходит в землю,
И при сём в себя вбирает силу
Всех вещей, — как высших, так и низших.
Так приобретёшь ты славу мира,
Тьма же вся покорно удалится.
Эта сила сил других сильнее;
Верх возьмёт над всякой тонкой вещью,
Плотную же вещь она проникнет.
Так свершилось сотворенье мира.
Из сего неисчислимо выйдет
Применений, коих средство в этом.
Потому и назван я Гермесом
Трисмегистом, знающим секреты
Мира философии троякой.
Так сказал я о вершенье Солнца».
«Вот таинство: саму себя змея
Глотает жадно, будучи составом,
Что поглощён, расплавлен, растворён
И превращён брожением. Зелёным
Становится; но, временем томим,
Окраску золотистую приемлет.
Отсюда — киновари красный цвет.
То — киноварь философов. Спиною
И чревом жёлтым будет наделён,
А головой — зелёною и тёмной.
Тетрада ног собой являет суть
Стихий великих. Уши же, которых
Имеет три — исшедшие пары.
Одно другому кровь свою приносит
Бесценным даром, чтоб зачать его.
Здесь сущность очаровывает сущность,
Но радуется всё ж не оттого,
Что были обе ранее противны,
А оттого, что сущностью одной
И прежде были, и остались ныне.
Так сущность происходит из себя,
К тому труды большие прилагая.
О друг мой! Прилежанием ума,
Серьёзною и долгою работой
Со тщанием, ты сможешь избежать
Ошибок, и конец узришь удачный
Своих трудов. Найдя сокрытый храм,
Иди ко входу, где лежит, простёршись,
И сторожит владения свои
Могучий змей. Убей его немедля
И кожу до костей содрать спеши.
Из кожи той устрой себе ступени,
Чтоб в храм войти. Войдя в него, найдёшь
Желанное. Должно свершиться это,
Поскольку жрец, вначале медный, стал
Серебряным, сменив свою природу
И прежний цвет. Спустя не много дней
Его найдёшь, когда того захочешь,
Во злато обратившимся сполна».
«Дух, наделённый подлинной способностью
Опять соединять разъединённое
А также разлагать соединённое,
Так расчленяет вещи, что даны ему,
При связи тел и спутанные чувствами,
Что эти вещи ради рассмотрения
Пред взор его приходят бестелесными,
От тел отдельно, с коими срослись они.
При этом вещи, ставши бестелесными,
В себе былые сохраняют признаки,
Хотя с телами более не связаны».
«— Есть в воле истина, и Истина сама
Гласит об этом нам, рассказывая, что
«Диавол в истине не устоял». Ведь он
В ней пребывал и сам, и волею своей
Её покинул, как того и пожелал.
— Я так и верую. Ведь если б только тот,
Кто бросил истину лишь вследствие греха,
Всегда лишь должного желал бы одного,
То никогда бы он греха не совершил.
— Так что ж под истиной ты понимаешь здесь?
— Одну лишь правильность, и больше ничего.
Поскольку он, покуда должного желал, —
А волю он ведь для того и получил, —
В пределах истины и правильности был,
И их утратил он, недолжного взалкав,
То не иное здесь возможно понимать
Под словом «истина», как правильность одну;
И вот поэтому и в воле-то его
То было — «истина» иль «правильность» оно, —
Желанье должного, и лишь оно одно.
— Ты понимаешь, как я вижу, хорошо».
«Знание же абстрагированное поймём мы двояко:
В смысле одном это знанье чего-то такого,
Что абстрагировано от сонма вещей единичных;
Если же так, то оно и является знаньем
Общего, кое от сонма вещей абстрагировать можно.
Позже об этом. Если же общее будет
Качеством истинным, кое в душе существует
В виде субъекта её, что можно считать вероятным,
То согласиться придётся, что общее можно постигнуть
Интуитивно, и что образом если подобным
Знание нам абстрагированное понять доведётся,
Выйдет тогда, что знание одновременно
И абстрагированным будет, и интуитивным.
В смысле таком эти знания разные формы
Не разойдутся не в чём, и противоположны не будут».
«Марс силой ратной угрожает нам,
И семь десятков раз к кровопролитью
Принудит он. Настанет крах соборов
И всех святынь. И кто не пожелает
Об этом слышать, — будет истреблён.
Коса и Водолей, к Стрельцу совместно,
В его небесном русле — беспокойство.
Чума и глад, погибель от оружья.
И вечность к улучшению подходит.
Не явится Ирида сорок лет,
И сорок лет — во всякий день заметна.
Ещё сильнее высохнет планета,
А далее, когда её заметят,
Обильных ливней будет наступленье».
«Вселенной жизнь едина по природе;
Источником её являться может
Одно лишь только вечное Единство.
Сей организм в себе соединяет
Вещей природных совокупность, кои
В гармонии взаимной пребывают.
Он — Макрокосм. Всё сущее явилось
Посредством созидательного акта,
Единого усилья мирового;
И Макрокосм и человек едины.
Они — одна гармония, влиянье,
Дыханье, констелляция и время,
Металл и плод; во всём единство это».
Встаёт и подходит к окну
Уже звезда-предвестница рассвета,
Вступив в свои законные права,
Сверкает так над шпилями собора,
Как будто мир, простёршийся пред ней, —
Её неразделимые владенья.
Она собою знаменует день,
Хотя сама — частица ночи. Утро
Её задует, как свечу. Но вновь,
Едва настанет должная минута,
Она взойдёт, и вновь проложит путь
Владыке неба — царственному солнцу.
Не знаю я, то правда или нет,
Что звёзды управляют человеком
С рождения, верша его судьбу,
И что по ним её прочесть возможно,
И всё о нём проведать наперёд.
Но знаю точно: им известны тайны
Вселенские. Им суть вещей ясна
И ведомо устройство Мирозданья.
Как близко Фосфор! Руку протяни —
И прикоснёшься. Он владеет всеми
Секретами законов Мировых
И возвещает претворенье ночи
В сиянье дня. А я — наоборот.
Возвращается к столу
Я не нашёл искомого ответа
Ни в этих книгах, ни в глазах людей,
Ни в глубине полуночного неба.
Я, как звезда, своей стезёю шёл, —
И вот теперь собою знаменую
Закатный час, за коим — только ночь;
Её, увы, уже не сменит утро.
Что я могу теперь, на склоне лет?
И жизни срок, и силы — на исходе.
Огонь горит по-прежнему в груди, —
Но сам светильник обветшал, и скоро
Рассыплется. Я знаю: корень бед,
Людских невзгод, пороков и напастей —
Недуг души. Но как его лечить?
Нет времени на поиски рецепта.
Познание — такой великий труд,
Что, проживи я век Мафусаила,
Я и тогда б, наверно, не успел
Закончить дело. В людях разобраться,
Исследовать глубины бездн души,
Её соотношенье с Макрокосмом,
Суметь постичь таинственную суть
Тех нитей, что связуют человека,
Его вплетая бисеринкой в ткань
Былого и грядущего, с другими, —
Кто жил когда-то, кто живёт сейчас
И кто века грядущие увидит…
Когда бы я Создателя дерзнул
Просить о чём-то, пав к Его престолу,
То я бы не бессмертия просил,
А срока жизни каждому такого,
Чтобы его хватало в самый раз
На выполненье избранного дела.
Кому-то — век, другому — три иль пять,
А третьему — десяток или больше.
Чтоб жизни мерой жизни цель была.
Слуга покорный низменных желаний,
Которым срок минута или час,
Среди людей подёнкой жалкой будет;
А кто вершит великие дела,
Кто ум и жизнь простёр за грани мира,
Кто вознестись желает к небесам
Не спеси ради, но великих знаний,
Кто хочет блага, кто взыскует сил,
Способных обустроить Мирозданье,
Тот будет схож с незыблемой горой,
Для коей век — что миг для человека:
Её подножье есть земная ось,
Вершина же поддерживает небо.
Я б попросил Создателя о сём, —
И сам бы принял то, чего достоин.
Коль я избрал неверную стезю
И мой порыв невежествен и тщетен,
Я б принял смерть без страха и обид,
И о себе не зная сожаленья.
Но то — мечта внутри другой мечты.
За пологом задёргивая полог,
Я оставляю правду на свету:
Она одна теперь доступна взорам.
Какой суровый и печальный лик!
Она неумолимее Фемиды.
У той всегда завязаны глаза
В стремлении к слепому беспристрастью;
А правды взор пронзает всё и вся.
Ей мера — не злодейства иль заслуги,
Но жизнь сама. И оттого она
Не наказует и не награждает,
А то являет, что на деле есть.
Когда страдает кто-нибудь безвинно,
Иль кто-то гибнет в праведном бою,
Иль злая сила празднует победу —
Она заносит это на скрижаль
Реальности. Она и зло, и благо
Как данное приемлет. В мире сём
Не много блага, — зло же повсеместно:
От этого у правды горький вкус.
И мне пред ней склониться остаётся,
И то принять, что занесла она
В свои необозримые анналы.
Я не достиг ещё преклонных лет, —
Но близок к ним. И я трудиться буду
До той поры, пока последний день
Не сменится последней ночью. Знаю:
Не завершить мне моего труда.
Но я его, отчаявшись, не брошу.
Возможно ль, делу годы посвятив,
Осмысленно прожив десятилетья,
На склоне лет утратить жизни смысл
И прозябать оставшееся время
В убожестве рассудка и души?
Я, словно конь дряхлеющий, упрямо
По полю буду влечь тяжёлый плуг,
Стараясь пустошь переделать в пашню.
Настанет час — умру на борозде.
Я так хочу, — и так оно и будет.
Встаёт
Пойду пройдусь. Рассвет уже стучит
В моё окно. Об эту пору воздух
Живителен для тела и ума.
А после — день и новые заботы.
Задувает свечу и выходит. Появляется Мефистофель
Мефистофель
Я вижу вновь, что я стократно прав:
У Фауста хорошие задатки.
Но, тщательнее дело разобрав,
Мы в корне их увидим недостатки.
Их множество. Но это — мелочь, сор
В сравненье с тем единственным, который
Его влечёт на путь паденья скорый
И предвещает гибель и позор.
Он возомнил, что он взойти бы смог
К познания заоблачной вершине;
Такие взлёты на крылах гордыни
Имеют предсказуемый итог.
Он обречён. Ему на то, чтоб пасть,
Лишь не хватает времени немного.
И поелику я имею власть,
Мне данную соизволеньем Бога,
Я гордецу сему возможность дам
Осуществить заветное желанье.
Он смертный путь себе проложит сам
И сам себе накличет наказанье.
Начнём достойно: так тому и быть.
Я мастер шуток этакого рода:
О чём мечтал он Господа просить,
То даст ему бесовская порода.
Ему не хватит духу отказаться:
Цена награды слишком высока.
И скоро в путах прочного силка
Он будет безнадежно кувыркаться.
Никто б удачней выдумать не мог:
Где ж видано подобное на свете,
Чтоб дичь сама себе сплетала сети
И попадала в собственный силок?
Исчезает
СЦЕНА ТРЕТЬЯ
Кабинет Шпеллера. Шпеллер и Фауст
Шпеллер
Неважно выглядишь. Наверно,
Всю ночь прошедшую не спал?
Фауст
Ты прямо в яблочко попал.
С недавних пор я вижу скверно,
И мозг натруженный устал, —
Но всё равно никак не спится.
А если и усну, то снится,
Что снова что-нибудь читал.
Шпеллер
Последний год иль больше года
Ты спишь едва ли через ночь.
Когда б я мог тебе помочь!
Или когда б могла Природа
Тебе способность даровать
Как за день за год уставать!
Фауст
Я в нескончаемом бою;
Я сам подобен полю брани, —
И ныне за день устаю,
Как за год не устал бы ране.
Шпеллер
Ведь ты ведёшь неравный бой
С врагом жестоким и бесстрастным,
Втройне и вчетверо опасным:
С непобедимою Судьбой.
Не хуже прочих знаешь ты,
Что сей всеобщий враг бессмертен, —
Зато в сражении усерден:
Одни безмолвные кресты
На том пути, каким идёт,
Он оставляет за собою.
Вступив в сражение с Судьбою,
Любой в конце-концов падёт.
Фауст
Я в этом возражать не смею.
Однако ж ты одно забыл:
Судьбой всегда раздавлен был
И тот, кто не боролся с нею.
Судьба — она для всех Судьба.
Куда решит, туда и правит:
Кого-то на века прославит,
Другого обратит в раба.
Шпеллер
Так, значит, надо не бороться,
А со смирением принять
То, что она изволит дать.
Другого нам на остаётся.
Фауст
Ты, рассуждая о Судьбе,
Забыл о Духе человечьем.
Тому, поверь, гордиться нечем,
Кто заглушил его в себе.
Когда Судьба над нами властна, —
То лишь над мясом и костьми.
Кто это помнит ежечасно,
Те и являются людьми.
Судьба — она червю подобна:
Она пожрать способна плоть,
И кости источить способна, —
Но Дух не может побороть.
Ты из него и черпай силу;
Пути противного держись.
Судьба потащит плоть в могилу, —
А человек взовьётся ввысь.
Она взимать желает дань?
Так кинь же ей гнилую падаль!
Твоей душе оковы надо ль?
Судьба гнетёт? А ты восстань!
Шпеллер
Но ведь она — в Господней воле.
И разве не бунтарь, не тать
Тот, кто осмелился восстать?
В уме ты повредился, что ли?
Фауст
Ты и подобные тебе
Своим аршином небо мерят:
Что по нему — тому и верят,
И Бога лепят по себе.
Взгляни на Господа иначе
Хотя бы кто-нибудь из вас
Хотя б один-единый раз, —
Он сразу б разрешил задачу.
Опутав нас цепями рока,
Создатель, милосердный Бог
Свои создания не мог
Немилосердно и жестоко
На гибель жалкую обречь,
Не давши способа какого
Однажды разорвать оковы.
Я вновь веду о Духе речь.
Своё творение любя,
В него вложил Творец всесильный
Источник силы изобильный:
Частицу самого Себя.
Помысли только, что в тебе
Величья Божьего частица, —
А ты, слепец, решил смириться
И не противиться Судьбе!
Ничтожен плотью человек, —
Но Духом Господу подобен;
И если хочет, то способен
Смирить неумолимый бег
Коней, которые влекут
Судьбы надменной колесницу.
Господь простёр Свою десницу,
Обременяя сонмом пут
Своих детей. Но в то же время
Решил и силу даровать
Чтоб эти путы разорвать
И сбросить тягостное бремя.
Шпеллер
Такая истовость речей
Меня, конечно б, испугала,
Когда б её не объясняло
Недосыпание ночей.
Я — друг тебе, и я смолчу.
Но если кто другой услышит,
Он тотчас же донос напишет.
И нас отправит к палачу
Святой церковный трибунал,
Тебя к схизматикам причисля
За еретические мысли,
Меня ж — за то, что им внимал.
Фауст
И здесь не стоит ждать иного.
Здесь за свободу мысли жгут.
И это зло свершает суд
С высоким званием «святого»!
Шпеллер
Оставь! Не то, глядишь, сейчас
Меня и вправду испугаешь.
Ведь ты беспечно подвергаешь
Нешуточному риску нас.
Кому нужны твои старанья?
Уймись! Они — пустая блажь.
Умерь полубезумный раж.
Подобных мук не стоят знанья.
Фауст
Коль мудрость ты приобретёшь,
Но человека не возлюбишь,
Ты тем её в себе погубишь:
Такая мудрость стоит грош.
Я лишь затем и жажду знаний,
Лишь для того готов страдать,
Чтоб после людям передать
Бесценный плод своих исканий.
Шпеллер
О, если б так оно и было!
Ужель не знаешь ты людей?
Ведь им милее лиходей
И безмятежная могила,
Чем тот, кто хочет их вести,
Подвергнув тяготам пути, —
Хотя бы путь и вёл ко благу.
Тому до блага дела нет,
Кого слепит небесный свет.
Они не сделают ни шагу,
Открыть глаза не захотят,
Плодов познания не примут, —
Тебя ж в гордыне обвинят
И на рогатины поднимут.
Нельзя ничем помочь тому,
Кто предпочёл прозренью тьму.
Фауст
Не может быть! Какая ложь!
Ты сам себе хотя бы веришь?
Иль во спасенье лицемеришь
И, обо мне заботясь, врёшь?
Души несчастной слепоту
Святая истина излечит, —
А ложь лишь больше изувечит.
И я погибнуть предпочту,
Чем вспять позорно повернуть
С того пути, каким шагаю.
Пойду вперёд. И полагаю,
Что доберусь куда-нибудь.
Мне цели не достичь конечной,
Закончить дело не успеть.
Но разве думаешь про смерть,
Когда идёшь дорогой вечной?
Шпеллер
Ну что ж… Тогда Господь с тобою.
Однако ж я б безумцем стал,
Когда б победы пожелал
Тебе в сражении с Судьбою.
Трудись, решай свою задачу,
Калечь хребет за разом раз.
А я, когда настанет час,
Тебя по-дружески оплачу.
Фауст
Ты не успеешь, может быть,
Поплакать о моей кончине;
А мне пристало слёзы лить,
Тебя оплакивая ныне.
Ведь мы с тобой друзьями были,
Могли и кров, и хлеб делить, —
Но ты меня оставил жить,
А сам уже лежишь в могиле.
Шпеллер
Постой! Молчи! От слов твоих
Повеяло загробным хладом,
Как будто бы могила рядом.
Я голос рока слышу в них.
Я не затем тебя позвал,
Чтоб ты в моём же кабинете
Меня могилою пугал.
Фауст
Оставь же разговоры эти,
И объясни скорей тогда,
Зачем позвал меня сюда.
Шпеллер
Твоя кипучая природа
Тебя влечёт к познанью, друг,
И у тебя в знакомых — круг
Людей сомнительного рода.
Ты сам рассказывал о них, —
К примеру назову хотя бы
Бродяг, астролога-араба,
Цыган, евреев и других.
Фауст
Всё это так. Влекомый жаждой
Постичь явлений мира суть,
Я знаюсь с ними, ибо каждый
Мне открывает что-нибудь.
Собравши толику отваги,
Иду к адепту Каббалы,
Или за старые валы,
Где собираются бродяги,
Или к знахарке дряхлой в дом
Ночной порою пробираюсь;
Да с бережением, — стараюсь,
Чтоб не прознал никто о том.
Бывает так, что грязный нищий,
Ландскнехт-наёмник, углежог
Иль сельский дед снабдить бы мог
Рассудок самой редкой пищей.
Я шёл к алхимику в подвал,
Видал цыганские кибитки;
С немалым риском добывал
Писаний запрещённых свитки;
Пытал матросов и купцов,
В далёких странствиях бывавших,
И пилигримов, повидавших
Святую землю праотцов.
Везде старательно ищу
Крупицы сокровенных знаний.
Пока живу, не прекращу
Своих рискованных исканий.
Шпеллер
В беседе этой, видит Бог,
Я вразумить тебя пытался;
Из мочи честно выбивался, —
Но сделать ничего не смог.
Теперь, похоже, остаётся
Лишь помогать по мере сил.
Когда с пути тебя не сбил,
То посодействовать придётся.
Фауст
Как посодействовать?
Шпеллер
Советом.
Я в гости Вольфа пригласил, —
И убедительно просил
Молчать о приглашенье этом.
Фауст
Кто этот Вольф? Как будто мне
Его фамилия знакома.
Шпеллер
Его я принимаю дома,
Чтоб вас свести наедине.
Здесь вас никто не потревожит.
Поговори немного с ним.
Возможно, розыскам твоим
Он тоже чем-нибудь поможет.
Безвестный Вольф зимою этой
Внезапно появился здесь,
В мехах немалоценных весь
И в ткани лучшие одетый.
Пустил ли он богатство в ход
Иль чем иным торил дорогу,
Но, подойдя к сему порогу,
Переступил его, — и вот
Без процедур и промедлений
Он принят в университет,
На богословский факультет.
Бытует сто различных мнений
Насчёт того, откуда он,
Какого звания и веры.
Имеет светские манеры,
Умом немалым наделён;
Хоть вовсе не читает книг —
Прекрасной блещет подготовкой,
И, между делом, ставит ловко
Преподавателей в тупик.
Во все товарищества вхож:
Свой у саксонцев и швейцарцев,
Тюрингов, швабов и баварцев, —
А самого не разберёшь.
В проказах разных умудрён,
Бесчинств студенческих зачинщик;
Но, между тем, — лихой латынщик,
И в Аристотеле силён.
Фауст
Ну да: теперь припоминаю,
Что что-то слышал про него.
Но чем для дела моего
Полезен он — не понимаю.
Шпеллер
Сей Вольф уже неоднократно, —
Хотя и вскользь, — давал понять,
Что может знаньем обладать
О неких тайнах. Вероятно,
Здесь что-то есть. К друзьям, бывает,
Свою он обращает речь,
Умея так её облечь,
Что мало кто и понимает.
То он витийствует пространно,
То слишком мало говорит, —
Но смысл речей всегда сокрыт,
И всё неясно и туманно.
Он словно тайною играет.
Однако ж через эту муть
Такая чувствуется суть,
Что дрожь невольно пробирает.
Вольф не боится ничего,
И словно тешится молвою,
Своей рискуя головою.
Уже магистры про него
Многозначительно судачат.
Я даве спрашивал двоих, —
Так перед ним, по мненью их,
Костёр на площади маячит.
Фауст
А сам-то ты какого мненья
О встрече оного с костром?
Шпеллер
А я почти уверен в том,
Что он найдёт себе спасенье.
Необычайная сноровка
Убережёт его всегда.
Как ловко он проник сюда,
Так сможет и исчезнуть ловко.
И вот покуда не исчез,
Тебе б спознаться с ним нехудо:
Вдруг он тебе откроет чудо,
Иль даже несколько чудес?
И я намерен сделать так:
Я вас наедине оставлю
И по делам стопы направлю.
А дальше — за тобою шаг.
Фауст
Меня снедает нетерпенье.
На месте трудно усидеть.
Всё тянет на часы глядеть,
Считая каждое мгновенье.
Раздаётся стук в дверь. Шпеллер идёт открыть и возвращается с Вольфом
Шпеллер
(Вольфу)
Я встречу, помнится, назначил
Ещё едва ль не через час.
Мы рады; но, признаться, нас
Приход нежданный озадачил.
Вольф
А я почувствовал, что тут
Меня нетерпеливо ждут.
(Шпеллеру)
Не будем в прения вдаваться.
Подозреваю, что сейчас
Вы думали оставить нас.
Так не пора ль ретироваться?
Шпеллер
Растерянно
Да… Пара дел пресрочных есть…
Вольф
Тогда задерживать не смею.
Я друга вашего сумею
Развлечь и сам.
Шпеллер
Берёт со стола папку с бумагами
Имею честь.
Выходит
Фауст
Я поражён таким напором.
Вольф
Ручаюсь головою: он
И сам немало поражён,
И оклемается не скоро.
Оставим тонкости момента.
Пора беседу начинать.
Усаживается в кресло
Что вы желаете узнать
Из уст обычного студента?
Фауст
Я с толку сбит. Мне трудно с ходу
Начать подобный разговор.
Вольф
Тот должен собран быть и скор,
Кто пожелал постичь Природу.
В ней все процессы и явленья
Спешат, бегут, за кругом круг:
Что прежде разрушалось — вдруг
Уже в процессе становленья.
Там царство вечной круговерти;
Там буйство сил, способных враз
Булыжник превратить в алмаз,
Или огонь — в земные тверди.
Я скромно доктору признаюсь,
Что изучал немного их,
И при способностях своих
Слегка в предмете разбираюсь.
Достаёт из-под одежды светящуюся склянку
Вот. Не угодно ли, пожалуй,
Склонить внимание сюда,
На эту смесь?
Передаёт склянку Фаусту
С огнём вода.
Фауст
О Боже!
Вольф
Хоть объём и малый,
Ладони мог бы ранить жар,
Когда б не водная прохлада.
Здесь — чудо, явное для взгляда.
Прошу: его примите в дар.
Фауст сидит, глядя на склянку, и не может произнести ни слова. Вольф встаёт
Я вижу, вам не до меня.
Пока смиренно удаляюсь;
Но завтра к вам намереваюсь
Явиться на исходе дня,
Теперь уже без приглашенья.
Мы прогуляемся. Потом
Вернёмся в ваш спокойный дом:
Беседа просит продолженья.
И вот тогда-то, прямо там,
Я без пощады и сомнений
Для бесконечных размышлений
Вам quantum satis пищи дам.
Выходит
Фауст
Никак не отдышусь. Так кто же
Сейчас передо мною был?
Я даже не имею сил,
Чтоб с кресла встать. О Боже! Боже!
Прячет склянку под одежду, с трудом встаёт и выходит
СЦЕНА ЧЕТВЁРТАЯ
Кабинет Фауста. Фауст задумчиво сидит в кресле. Входит Шпеллер
Шпеллер
Я сам не свой; от беспокойства
Не вижу ничего вокруг.
А ты, как будто, впал в недуг
Меланхолического свойства?
О чём ты с Вольфом говорил?
Зачем ушёл, забыв о друге?
И почему своей прислуге
Впускать пришельцев запретил?
Я сутки страхом изводился;
Уже мерещилась беда…
Ещё немного — и сюда
Ворваться б силою решился,
Гонимый тягостным волненьем.
Но, к счастью, ты за мной послал, —
И я немедля прибежал,
И жду рассказа с нетерпеньем.
Молчание
Фауст
Вчерашней встречей поражён,
Я ошарашен и растерян;
И, право, был бы не уверен
В том, что она — отнюдь не сон,
Не бред усталого рассудка,
Когда в руках бы не имел
Плодов таких чудесных дел,
Что мне и радостно, и жутко.
Шпеллер
Ты на меня наводишь страх:
Сперва — молчаньем, после — словом,
И неким выраженьем новым,
Которое в твоих глазах
За эти сутки появилось.
Ты прежний сам, а взгляд — другой…
Скажи скорее, что с тобой?
Что, что вчера тебе открылось?
Фауст
Тебя я знаю преотлично.
При осторожности твоей
Чем боле дело необычно,
Тем для тебя оно страшней.
И я почти готов ручаться, —
Ты пожалел уже не раз
О том, что познакомил нас.
Однако с Вольфом повстречаться
Мне было впрямь необходимо.
Благодаря тебе, теперь
Я приоткрыл в познанье дверь, —
А так, глядишь, прошёл бы мимо.
Молчание
Шпеллер
Так что ж?
Фауст
Всего минуты три
Беседа наша продолжалась.
Но у меня о ней осталось
Одно свидетельство.
Извлекает из-под одежды светящуюся склянку
Смотри.
Шпеллер
Что в этой склянке?
Фауст
Я над нею
Как зачарованный сижу,
Не в силах двинуться; гляжу, —
И прямо сердцем цепенею.
Молчание
Я проводил в тружданьях годы,
Пытаясь отыскать ответ,
Постичь закон, раскрыть секрет, —
Суть человеческой природы.
И вот вчера в твоём дому
Встречаю мудреца такого,
Что не могу придумать слова
Для применения к нему.
Он — волхв, он — маг, он — чародей,
Смиритель всех стихий свободных,
Знаток и сил, и тайн Природных,
И, без сомнения, — людей.
Вольф как видение исчез,
Пообещавши возвратиться;
И голова моя кружится
От предвкушения чудес.
Он удалился без прощанья;
Но в дар — а может, и в залог —
Оставил этот пузырёк,
Как будто символ обещанья.
Подаёт склянку Шпеллеру
Смотри, внимательно смотри.
Простой флакон… Но что внутри?..
Чаруя взор сияньем, в нём
Трепещет смесь воды с огнём.
Шпеллер
Воды с огнём? Но как же так?..
Неужто?.. Быть того не может!
Фауст
Тебя, гляжу, сомненье гложет?
Шпеллер
Любой, кто только не дурак,
Поверить в это не решится.
Фауст
Однако ж так оно и есть.
Могу анализ произвесть,
Когда желаешь убедиться.
Я не профан, — ты знаешь сам.
Кто медик, тот и химик тоже.
Могу и доказать. И всё же
Прошу: поверь своим глазам.
Тут и анализа не надо.
Чтоб убедиться в том, что здесь
Воды с огнём сияет смесь,
Довольно пристального взгляда.
Шпеллер вглядывается в содержимое склянки, и руки его начинают дрожать
Шпеллер
Ты прав, увы! Я вижу это, —
И содрогаюсь потому,
Что предо мной — источник света,
Который знаменует тьму.
Да как же ты не понял сам:
Не человеческая сила
Огонь с водой соединила,
Готовя искушенье нам!
Фауст
Меня и тьма не остановит.
Ведь дня достоин только тот,
Кто через ночь вперёд пойдёт
И первый луч зари уловит.
Шпеллер
Опомнись, Фауст!
Фауст
Я здоров,
И мыслю сердцем и рассудком, —
А не мошной и не желудком,
И не застёжками штанов.
Ты — богослов, и недурной:
Но в Божьем замысле — невежда.
Теперь же нам дана надежда
Его постичь. Пойдём со мной.
Светило дённое садится.
Ещё всего какой-то час —
И полог тьмы накроет нас.
Вольф обещал сюда явиться
Поближе к ночи. И тогда
Из сей обители страданья
Пойдём туда, где свет познанья.
Согласен? Руку!
Протягивает Шпеллеру руку
Шпеллер
Никогда!
Бросает склянку об пол. Она разбивается, и к потолку поднимается облачко пара
Фауст
Зачем!..
Шпеллер
Изыди, Сатана!
Опомнись, Фауст, заклинаю!
Здесь адский умысел, я знаю;
Ловушка явная видна!
И как я сам не понял сразу,
Как не заметил, не постиг,
Что Вольф — опасный малефик?!
Как допустил к тебе заразу?!
Познанья путь — дорога в ад.
Но для тебя ещё не поздно
О сём задуматься серьёзно
И повернуть стопы назад.
Фауст
Когда б я мог остановиться,
Так я и вовсе бы не жил.
Ах, если б мне хватило сил
Сквозь эту тьму к заре пробиться!
Я горстью зачерпну зарю, —
И лишь тогда вернусь обратно,
Умножу жизнь тысячекратно
И людям Вечность подарю.
Шпеллер
Оставь ты это, ради Бога!
Пускай идут, куда хотят.
Своя у каждого дорога:
Кому-то — в рай, кому-то — в ад.
Оставь! Ну что тебе до них?
Тут сам себя едва спасаешь, —
А ты, безумец, предлагаешь
Ещё и думать о других.
Христос живущим наказал
Преодолев мирские тлены
Тем уберечься от геенны:
Успел — спасён, а нет — пропал.
Познанье — самый жалкий тлен,
Умов отрава. Недруг Богу,
Кто выбрал оную дорогу.
Ему и тысячи геенн
Для наказанья недостанет.
А особливо же — для тех,
Кто, погружаясь в этот грех,
Ещё других с собою тянет.
Фауст
Да как же ты не понимаешь:
Моё стремление — не грех.
Ты тут меня спасти желаешь, —
А я спасти желаю всех.
Зачем кричишь, о чём хлопочешь,
Кому сулишь Господень гнев?
Совсем от страха ошалев,
Ты этим Господа порочишь.
Шпеллер
Довольно слов. Молчи, несчастный!
Такого мне не вразумить.
Я удручён. Так как же быть?
Ты — еретик, притом опасный.
Молчание
Я должен бы пойти сейчас
И донести о том, что знаю;
Но стать убийцей не желаю.
Пускай Господь рассудит нас.
Я ухожу. Прощай навек,
Мой бывший друг, коллега бывший,
Себя навеки погубивший.
Прощай, пропащий человек.
Забудь о том, что знал меня.
Когда тебя увечить станут,
На дыбе над огнём растянут
Или посадят на «коня»,
Молчи, что был со мною связан.
Тебя я нынче не предам,
А ты меня не выдай там:
Ты будешь этим мне обязан.
Прощай. Окончен разговор.
Я полон скорби непритворной,
Предвидя твой арест позорный,
А после — пытку и костёр.
Фауст
Прощай. Позволь тебя поздравить:
Ты сделку мастерски провёл.
Клади же договор на стол,
Чтоб подписи под ним поставить.
Что, нет бумаги? Почему?
Ведь ты хотел былому другу
Большую оказать услугу,
Продав молчание ему!
Могу побиться об заклад,
Ты не останешься в убытке:
Я про тебя молчу на пытке,
А ты меня отпустишь в ад.
Ну что ж, изволь: готов молчать.
Ne varietur. Обещаю.
Законность сделки подтверждаю.
Теперь скорей поставь печать.
Хватается за голову
Нет, я тебя не узнаю!
Ты мне в глаза костёр пророчишь,
А сам иного и не хочешь,
Как шкуру уберечь свою.
Что будет далее со мною,
Тебе плевать. Желая жить,
Ты смел спасение купить
Такой позорною ценою!
Опомнись! Дай себе вздохнуть!
Не обращай блаженства в муку!
Прими предложенную руку,
И вместе с ней — достойный путь.
Протягивает Шпеллеру руку. Тот молча отворачивается и выходит. Фауст остаётся один
Кто б мог предвидеть то, что сейчас было?
Ударил не щадя: размозжил душу.
Уходит человек, а за ним — сердце.
Такая пустота, что дышать больно.
Я плакать бы хотел, — не текут слёзы:
Они залили мозг, обратясь в горечь.
И нечего сказать; что теперь скажешь?..
Страданью моему немота — мера.
Некоторое время молчит, закрыв лицо руками. Затем опускается на колени
О Господи, о наш Отец небесный!
Твоё во славе да святится имя,
Твоё святое да придет Царство,
И на земле Твоя да будет воля,
Как и на небе. Дай нам хлеб насущный;
Прости долги нам, как и мы прощаем;
И не введи Ты нас во искушенье,
Но огради от козней сатанинских.
Входит Вольф
Вольф
Я должен был явиться — и явился,
Войдя через распахнутую дверь.
Фауст
Поднимаясь с колен
Сражений не бывает без потерь.
Кто никогда о павших не молился,
Кто муки одиночества не знал,
Тот подлинных страданий не изведал.
Вольф
Я, кажется, вам помолится не дал?
Фауст
Я вашего прихода ожидал.
О прошлом погребальную молитву
Перекрывает будущего зов.
Я жажду жизни, — и вести готов
За право жить с самою Смертью битву.
Приветствую в своём жилище вас
Как вестника, что послан небесами.
Вольф
Вы не подозреваете и сами,
Как близко к правде подошли сейчас.
Молчание
Фауст
Моя душа — одна сплошная рана.
Враг так не бьёт, как бить умеет друг.
Вольф
Лекарствами не лечится недуг,
Зовущийся «чумой самообмана».
Сия напасть крепчает час за часом,
Вгрызаясь в мозг и гибелью грозя.
Её изжить иным путём нельзя,
Как только зубы сжать и вырвать с мясом.
Я вижу: рана рваная свежа;
Я чую аромат горячей крови.
И у меня повязка наготове,
А к ней и мазь, чтоб поджила душа.
Скорбящему прописано веселье,
Тому, кто плачет, — беззаботный смех,
Страдальцу — вихрь безудержных утех,
Печальному — попойка и похмелье.
Пойдёмте же. Сегодня, как нарочно,
Знакомец мой справляет юбилей.
Там будет, без сомненья, веселей,
Чем здесь, у вас, — и грусть отступит точно.
Фауст
Я не привык к веселиям застольным, —
Ещё к таким, куда не приглашён.
В их правилах ничуть не искушён,
Боюсь подпортить промахом невольным
Среди знакомцев ваш авторитет, —
Ведь вы, видать, в дома любые вхожи;
А у меня такой сноровки нет.
Когда б я был немного помоложе…
Вольф
Мой древний род имеет в свете вес;
И я самонадеянным не буду,
Сказав, что он с почётом принят всюду, —
От недр земных до ангельских небес.
Я всюду вхож: и в нищенский шалаш,
И в дом купца, и в спальню мещанина,
И в капюшон монаха-капуцина,
И в зал, где восседает цесарь наш,
В казарму, в кабинет научных бдений,
В весёлый дом и в госпиталь чумной.
Коль вы хотите следовать за мной,
Тогда вперёд, без лишних рассуждений.
Фауст
Дух занимает. Пусть судьба вершится!
За вами я последую сейчас
Не для того, чтоб там повеселиться,
Но лишь затем, чтоб не утратить вас.
Выходят, — впереди Вольф, за ним Фауст
СЦЕНА ПЯТАЯ
Столовый покой в доме Роттенштейна. За богатым столом сидят Роттенштейн, Арндт, Ганзен, Венцель, Штауб, Ольтенбах, Вольф и Фауст
Роттенштейн
Мой прадед опочил за девяносто;
Семидесяти трёх скончался дед;
Отец усоп шестидесяти лет;
Сейчас дожить до сорока непросто.
А я дожил, самим чертям назло, —
И далее намерен жить упрямо.
Я рисковал, — и мне всегда везло.
Мной поперхнулась долговая яма,
И не один в сражениях мушкет,
Меня завидев, пулей подавился.
Венцель
Раз ты живым вернуться умудрился,
То точно отмахаешь сотню лет.
Уж я-то видел все твои дела.
Роттенштейн
Да, любо вспомнить службу удалую.
Семь лет прошло, — а я по ней тоскую.
Ольтенбах
Ужель тебя фортуна подвела?
Роттенштейн
Как будто нет. Но я мозги имею, —
И так себе однажды рассудил:
Коль Бог тебя добычей наградил,
Так насладись удачею своею.
И я домой со службы воротился,
Таща с собой трофеев ценных воз.
Допрежь всего в собор деньгу принёс;
Потом скорей с долгами расплатился.
А после дом вот этот приобрёл,
Открыл своё коммерческое дело.
Штауб
Ты обошёлся с деньгами умело,
Чему порукой — сей богатый стол.
Ганзен
За здравие!
Ольтенбах
Пошли, Господь, удачи
Тому, кто тем щедрее, чем богаче!
Ганзен
Да не скудеет рука дающего,
Покуда в глотке свербит у пьющего!
Смеются
Штауб
(Фаусту)
Мы в третий раз ко рту подносим чаши, —
А ты одну с натугой пригубил.
Ганзен
Он никогда, наверное, не пил.
Роттенштейн
Ты обществом пренебрегаешь нашим?
(Вольфу)
Послушай, Вольф, кого ты нам привёл?
Ты говорил, что доктор он, как будто?
Так что же доктор твой молчит надуто
С тех самых пор, как в комнату вошёл?
Вольф
У человека страшная беда:
Он с другом вдрызг сегодня расплевался;
И я его поэтому старался
Привесть за утешением сюда.
Роттенштейн
(Фаусту)
Поцапались? Ну, не печалься, брат.
В делах подобных следуй Ольтенбаху:
Его приятель даст, положим, маху,
Так он того — коленкою под зад.
Фауст
Оставьте.
Венцель
Как?
Фауст
Да очень просто.
Венцель
Шутишь?
Штауб
Чего удумал!
Венцель
Как тебя поддеть,
Растормошить? А то ведь так и будешь
Посредь пирушки пасмурным сидеть.
Ну, выпей-ка! Надёжней нет лекарства
От тех скорбей, что больно гложут нас.
Опорожняй бокал — и через час
Счастливей станешь, чем властитель царства.
(Ганзену)
Пропой ему одну из тех кантат,
Что ты в минуты протрезвленья пишешь.
Ольтенбах
Эй, Ганзен! Спой.
Штауб
Притом погромче, слышишь!
Ганзен
Да я всегда друзей потешить рад.
Поёт
Про искусства и науки
На рассказывайте мне.
Это всё — пустые штуки,
Что приносят только муки.
Знаю: истина — в вине.
Я не раз проверил это.
Лишь вино способно дать
На любой вопрос ответы.
Нет достойнее предмета,
Чтобы в школах изучать.
Пусть бы в школах только пили!
Если б в классе школяра
Щедро винами поили,
То оттуда б выходили
Всех наук профессора.
А поскольку эта склонность,
Без сомненья, в каждом есть, —
Ей бы только бы законность, —
То цвела б тогда учёность
Аж до самых диких мест.
Кто желает просветиться —
Пусть немедленно ко мне
За советом обратится,
Чтоб ему могла открыться
Сладость истины в вине.
Венцель
Ура!
Ольтенбах
Виват!
Роттенштейн
(Вольфу)
Хорош Вергилий наш?
Ольтенбах
Что за Вергилий?
Роттенштейн
Я и сам не знаю.
Какой-то рифмоплёт.
Арндт
Припоминаю:
Он, вроде, грек.
Ольтенбах
(Вольфу)
Гляди, какой кураж!
Вольф
(Арндту)
Он, точно, грек, из Амстердама родом.
Штауб
Из Штеттина. Я слышал про него.
Венцель
Да ну его к монахам самого,
Впридачу с этим варварским народом.
Ольтенбах
Как надоели, побери их прах!
Они везде теснят природных немцев.
На улицах, в гостиницах, в портах
Проходу нет от разных иноземцев.
Ганзен
Однако можно смело заявить:
Германца никому не перепить.
Штауб
За здравие!
Арндт
(Роттенштейну, указывая на Вольфа)
Откуда этот взялся?
Я, вроде, раньше не встречал его.
Роттенштейн
Я сам не понимаю ничего.
В приятели нахально навязался,
Как сослуживец мой военных лет.
Ни я, ни Венцель знать его не знает;
А он до мелочей припоминает
Былое, — так, что расхождений нет.
Он не скупой, язвительный, весёлый, —
Да нынче что-то малость попритих.
Арндт
И тот, другой, сидит какой-то квёлый.
Есть нечто подозрительное в них.
Вольф — как кафтан с подкладкою двойною;
А доктор вовсе словно бы не здесь.
Не разберу, — то глупость или спесь,
Или печаль с бездонной глубиною.
Ольтенбах
Дружище Арндт, где твой задорный норов?
Сегодня ты открыть ленишься рот.
Положим, Штауб без конца жуёт, —
Ему, бедняге, не до разговоров;
Но ты-то что? Как дряхлая старуха,
Сопишь себе, не разлепляя глаз.
Вниманием своим минуя нас,
Лишь мямлишь что-то Роттенштейну в ухо.
Венцель
Предположу, — и, верно, буду прав, —
Что Арндт сегодня молчалив и скучен
По той причине, что вконец измучен
Бессонницей.
Ольтенбах
В трудах ночных забав
Он так однажды силы поистратит,
Что их на громкий чих уже не хватит.
Арндт
Смеясь
А вас, мерзавцев, вижу, зависть гложет?
Завидуйте! А я скажу в ответ:
Никто из вас похвастаться не может
Десятой долей от моих побед.
Ганзен
Держу пари, что я не мене пылкий!
Но, к счастью, в деле не столкнуться нам, —
Ведь ты считаешь покорённых дам,
А я — опорожнённые бутылки.
Венцель
Вот это верно!
Вольф
Выпьем же за них!
Пусть всяк из нас идёт своей тропою,
Побольше занимается собою
И не хватает за кадык других.
Роттенштейн
Да будет так.
Штауб
Нельзя сказать верней.
Венцель
(Роттенштейну)
А этот Вольф не без ума, ей-ей.
Арндт
Берёт принесённую им с собой лютню и поёт
Пыл любовный сердце гложет:
Мне терпеть его невмочь!
Кто несчастному поможет?
Кто любовь прогонит прочь?
Я б и сам сразился с нею, —
И не дрогнула б рука! —
Да оружья не имею
Против этого врага.
Стрелы злого Купидона
Вышибают славно дух:
Им кольчуга — не препона,
Им и панцирь — что лопух.
Если б я бы исхитрился
И его похитил лук,
То никто бы не укрылся
От моих нещадных рук.
Я забыл бы про дуэли,
Враг не падал бы в крови:
Я б в него из лука целил, —
Пусть погибнет от любви!
Если кто-то обойдётся
Непочтительно со мной, —
Ни молитвой не спасётся,
Ни стеною крепостной.
И по мщения закону
Я б одну стрелу пустил:
Самому бы Купидону
За мученья отомстил.
Только лука-то, к несчастью,
Не добыть вовеки мне.
Так томиться сердце страстью,
Словно жарится в огне!
Будь я царь, я б даже царства
Не жалел, клянусь, отдать
За один глоток лекарства, —
Чтоб страдания унять.
Что ни день — то хуже, хуже…
Мне не справиться с собой.
Дайте, кто-нибудь, оружье,
Чтоб вступить с любовью в бой!
Роттенштейн
В атаку, друг!
Венцель
Гони её! Гони же!
Ольтенбах
Да, ловеласу, чтобы преуспеть,
Два инструмента надобно иметь:
Один — во рту, другой — чуток пониже.
Все смеются, кроме Фауста
Фауст
(Арндту)
Ты очарован женскою красой?
Какой слепец! Ужель не видишь: это
Лишь шелуха бездушного скелета.
Такою Смерть, грозящая косой,
Нам предстаёт. Не зря Природа сей
Являет символ. То, что может ныне
Разжечь огонь желания в мужчине,
Душевной болью скажется поздней.
Остерегись вкушать нектар любви,
Иль угодишь, гонясь за счастьем пьяно,
В железный зев смертельного капкана,
И захлебнёшься в собственной крови.
На плоти зов ответить не спеши,
Ведь радость тела — горе для души.
Молчание
Венцель
Он шутит, что ли?
Роттенштейн
Нет: видать, не шутит.
Ганзен
Тьфу на него. Какая ерунда!
Мы веселиться собрались сюда, —
А он, поганец, душу баламутит.
Арндт
(Фаусту)
Любезный доктор, я заметить рад,
Что вы у нас ещё монах к тому же.
Ольтенбах
(Арндту)
Не клевещи на долгополых, брат:
Из них любой — ходок тебя не хуже.
Фауст
Я не монах. Но я, помимо плоти,
Ещё и Духа различаю глас.
Вы песни здесь горланите и пьёте,
А Сатана — за спинами у вас.
Венцель
Эк, чем пугнул! Да кто его видал?
Ганзен
Сей врач — знаток поносов и запоров,
Но только не застольных разговоров.
Роттенштейн
(Фаусту)
Ты здесь, дружок, большого маху дал.
Я видел две кровавые войны, —
Но даже там не встретил Сатаны.
Ольтенбах
Постойте, братцы. Ну отколь ему,
Привыкшему в пергаментах копаться,
Смекалку взять, чтоб в жизни разобраться?
Венцель
Так растолкуй бедняге, что к чему.
Ольтенбах
(Фаусту)
Послушай-ка. Глаголы Духа — бред,
Легенда, ложь, младенческая сказка.
Твои слова — сплошная неувязка:
Ты слышишь то, чего на деле нет.
Когда бы Духа след хотя бы был
Внутри людей, они б иначе жили, —
Друг друга бы без памяти любили,
И мир бы не пускали на распыл.
Нас из навоза вылепил Господь,
Рассудок дал и повелел плодиться.
И мы, стараясь жизнью насладиться,
Усердно тешим суетную плоть.
Вот это — жизнь: игра, застолья, песни,
Амуры, смех, за голенищем нож!
Я поручусь: хоть от натуги тресни,
Ты ничего приятней не найдёшь.
Иного мир не ведает от века;
Иное и не нужно никому.
Все доблести, что красят человека,
От Господа ниспосланы ему.
В нас — храбрость, хитрость и любовный пыл,
Весёлость, гордость, ярость и упорство,
Соединенье всех телесных сил
И разума великое проворство.
Живи, ни в чём не ведая препон;
Порви узду — и вскачь лети, свободен!
Кто сам себе — и совесть, и закон,
Тот подлинно могуч и благороден.
Венцель
То — истина!
Штауб
За здравие его!
Венцель
(Фаусту)
Ты уничтожен. Что теперь ответишь?
Как по речам — так в праведники метишь,
А поглядеть — не стоишь ничего.
Фауст
Я полагал, что зря сюда пришёл, —
А ныне вижу: дело не напрасно.
Недуги душ опять увидев ясно,
Лишь большую уверенность обрёл
В той правоте, какой живу одною,
В своих мечтах и в избранном пути.
(Вольфу)
Уйдёмте, Вольф.
Вольф
Я не могу уйти,
Не прояснив вопроса с Сатаною.
(Роттенштейну)
Ты Сатану не видел потому,
Что лик его в себе узреть боишься.
Но ты поймёшь, когда в себя вглядишься,
Что в жизни всем обязан лишь ему.
Роттенштейн
Да хоть и так. И что с того? Создатель
Его не погнушался сотворить,
Чтоб было с кем хотя б поговорить.
Ганзен
И Богу, видно, надобен приятель.
Венцель
Раз Сатана дарует радость нам,
То я ему за это благодарен.
А кто твердит, что Сатана коварен, —
Пусть катится ко всем его чертям.
Вольф
Смеясь
Я возразить не в силах ничего.
Так выпьем же за здравие его!
Венцель
За Сатану!
Ольтенбах
Вот это в самый раз!
Роттенштейн
С почтением свои поднимем чаши.
Сей проводник, пути блюдущий наши,
Пускай и дале не оставит нас.
Венцель
(Фаусту)
Ты что скривился? Почему не пьёшь?
Упущено для отступленья время.
Коль ты на наши речи донесёшь,
То сам ответишь наравне со всеми.
Арндт
Да, доктор основательно увяз.
Ему и нам теперь одна дорога.
Штауб
Довольно, братцы, умоляю вас!
Оставьте эту тему, ради Бога!
Ганзен
Ты испугался, что ли, толстячок?
Смеясь
Смотри, смотри, как бледностью покрылся!
Бьюсь об заклад, что каплуна кусок
На полпути к кишкам остановился.
Штауб
Мне боязно, конечно. Ну и что же?
Не за столом о пытках говорить!
Тебе же, Ганзен, хорошо острить
Над бледностью с такой багровой рожей.
Роттенштейн
Восславим же живительную влагу,
Что помогает страхи превозмочь.
Хмель бледность с лиц исправно гонит прочь
И сердцу дарит дивную отвагу.
Запевает; к нему присоединяются Венцель, Ольтенбах, Ганзен, Штауб, Арндт
Хороша большая кружка,
Если в кружке не вода.
Эта кружка — просто душка,
Наша верная подружка:
Не откажет никогда,
И всегда ответит «Да».
Нам застолье — вместо мессы,
Бочка винная — алтарь,
Клир — буяны и повесы,
Божья плоть — деликатесы,
Песня пьяная — тропарь,
А трактирщик — пономарь.
Наша дружба — крепче нету:
Неразлей вода-вино.
Друг последнюю монету
От супруги по секрету
Пустит в дело всё равно,
Чтоб просохло бочки дно.
Только пьянственное братство
Вхоже всюду и всегда, —
От дворца и до аббатства.
Наше жидкое богатство
Покоряет города
Без малейшего труда.
До того миролюбива
Наша армия гуляк, —
Вместо крови льётся пиво,
Да гремят веселья взрывы,
Аж колышется кабак.
Нам непьющий только враг.
Под поток хмельного зелья
Становись и млад, и стар.
В нём — и храбрость, и веселье.
А когда тебе похмелье
Разожжёт в кишках пожар, —
Вновь вином загасишь жар.
Ганзен
Эх, хорошо!
Венцель
(Фаусту)
Завидуй же, старик.
Ты будешь вспоминать минуты эти
В пропахшем смертью душном кабинете,
Среди своих заплесневелых книг.
Здесь — жизни пир. Сойдя с престола власти,
Она как женщина ласкает нас;
И гимн, который здесь звучал сейчас, —
Свидетельство ответной нашей страсти.
Вольф
Простая мысль и немудрёный слог,
И голоса подстать нехитрой песне.
Я б сочинить изысканнее мог, —
К тому ж, и на сюжет поинтересней.
Молчание
Венцель
Так вот ты как!
Фауст
(Вольфу)
Похоже, дело скверно.
Ольтенбах
(Роттенштейну)
Ты для того его и пригласил,
Чтоб он собранье наше поносил,
Высмеивая нас высокомерно?
Штауб
Он говорит, у нас убогий вкус.
Ганзен
Да сам-то кто?
Арндт
Не видишь: иностранец.
Ганзен
Не турок ли?
Арндт
Скорей всего, индус.
Ольтенбах
Похоже, грек.
Венцель
Не грек, а итальянец.
Ганзен
Таких речей ему спустить нельзя.
Ольтенбах
Примерно вздуть!
Венцель
Да и другого тоже.
Вольф
(Фаусту)
Уйдёмте, доктор. Видно, верно всё же,
Что соловьи воронам не друзья.
Встают и идут к выходу. Ольтенбах преграждает им дорогу
Ольтенбах
Постой, наглец!
Штауб
Держи его! Держи!
Венцель
Присоединяясь к Ольтенбаху
Вы не уйдёте, чтоб вам было пусто!
Роттенштейн
(Вольфу)
А ну иди сюда и покажи
Своё неотразимое искусство.
Надеемся, ты очаруешь нас.
А если нет, — мы твой талант наладим:
Сорвём портки, и задом тот же час
На угли неостывшие усадим.
Венцель
Ну, пой давай!
Фауст
Не надо, господа!
Оставьте нас; не нарушайте мира.
Вольф
Делая Фаусту успокаивающий жест
Пусть будет так, — и завершенье пира
Они, клянусь, запомнят навсегда.
Собравшимся
Я прочитаю, а не пропою:
Здесь в эту ночь уже довольно пели.
Вы, стало быть, искусства захотели?
Так ешьте же поэзию мою!
Декламирует
Однажды, грозной ночью бурной,
Когда сребристая луна
В глуби небесна океана
Сокрылась, мощью урагана
С своих путей увлечена,
И глади, некогда лазурной,
Пришёл на смену тёмный вал,
Гонимый силами Природы,
И падал вниз ни дождь, ни снег,
И тяжкой сталью били в брег
Когда-то ласковые воды,
И ветер вольно завывал,
Над сей бушующей вселенной
На прочном выступе крутом
Утёса, что навис над бездной,
Своею волею железной
Держась на камне хладном том,
С улыбкой дерзкой неизменной
Глумясь над видимым ему,
Упрямец некий безрассудный
Стоял, туда направя взор,
Где молний огненный узор,
Являя глазу символ чудный,
В который раз низвергнул тьму.
При свете сём у рифов дальних,
Что, вставши каменной стеной,
От моря заслоняют сушу,
Свои морщинистые туши
Столкнув с солёною волной,
Угрюмых, серых и печальных,
А ныне стонущих в бою
С морской стихиею, способной
Прозрачной толщей мир покрыть,
Сравнять холмы и горы срыть
В своей запальчивости злобной
Чтоб силу показать свою,
Виднелся парусник. Ветрила
Сорвал безумствующий ветр;
Теперь, гонимый мощью властной,
Стать обречён корабль несчастный
Добычей моря жадных недр.
Неотвратимая могила,
Принять готовясь экипаж,
Бурлила в ярости великой.
А тот, кто с берега смотрел,
Кричал, смеялся, громко пел
В такой неистовости дикой,
Как будто впал в злорадный раж.
«Неси, волна, сей гроб древесный;
Встречайте, рифы, наглеца;
Прими, пучина, жертву эту!
Их океан призвал к ответу.
Избегнуть страшного конца
Им самый сильный и чудесный
Помочь не сможет талисман.
Никто не в силах спорить равно
С Природной мощью. Даже тот,
В ком мысль бесстрашная живёт,
В борьбе такой падёт бесславно.
Земля, вода, и ураган,
И огнь небес — на страже власти,
Что возжелал присвоить тот,
Чей облик я приемлю ныне,
Кто враг незыблемой твердыне,
Своих привычек вьючный скот
И жалкий раб порочной страсти.
Рассудка светлый дар приняв,
Сие кичится им созданье,
Себя царём Вселенной мня;
Своей рукой себя казня
И не снеся того страданья,
Перед Судьбой на чрево пав,
Презренна тварь себя возносит,
Перед собой хотя б стремясь
Хранить величия личину,
Забыв и самую причину,
Что обращает перл во грязь,
И блага благ у неба просит.
О человек! Несчастен ты
В своей гордыне непомерной:
Слепым рождён, слепым живёшь,
Слепым и смерть свою найдёшь;
Отягощён своею скверной,
Ты станешь пищей пустоты.
Природы вечные законы
Своею волей преступить
Себя считаешь ты способным…
Но вот видением предгробным
Возникли рифы; их оплыть
Мешают многие препоны.
Что можешь ты, убогий шут?
Сейчас к концу своей дороги
Десятки жизней подошли
В виду спасительной земли…
Деяньям мерзостным итоги
Бесстрастный рок подводит тут».
Туда слова его неслись,
Где молний вспышки освещали
Последний парусника миг;
Громадный вал его настиг,
Борта, ломаясь, затрещали,
И страшный крик рванулся ввысь.
«Свершилось должное!», — с утёса
Он сделал шаг… И в тот же миг
Его воздетые десницы
В крыла могучей белой птицы
Вдруг обратились. Смертный крик
Схлестнулся с криком альбатроса.
Над судном гибнущим кружил,
Пронзая дождь, сминая ветер…
Когда ж ревущая вода,
Сглотнув добычу без следа,
Сомкнула зев, в сверкнувшем свете
Он крылья сильные сложил
И, гибкой рыбою огромной,
Сверкнув сребристой чешуёй,
В валы бушующие канул.
Негромкий всплеск в пространство прянул,
Смешавшись с ветреной струёй
И хладных вод пучиной тёмной.
Молчание
Роттенштейн
Мне показалось, иль на самом деле
Куда-то вверх его вознёсся глас
И с грохотом обрушился на нас?
Или то громы за окном гремели?
Арндт
Меня ломала дьявольская сила, —
И я теперь дивлюсь тому, что цел.
Ганзен
А я впервые за год протрезвел:
Меня холодным ветром прохватило.
Венцель
Моё лицо как будто в брызгах влаги,
И губы обрели солёный вкус…
Откуда он — предположить боюсь…
Роттенштейн
А Штауб как?
Ольтенбах
Душа у бедолаги
Со страху повстречалась с каблуками:
Я на ногах едва его держу;
Притом и сам постыднейше дрожу
И против воли клацаю зубами.
Роттенштейн
(Вольфу)
Уйдите прочь. Уйдите, заклинаю!
Оставьте мой погрязший в страхе дом.
Кто вы такие — знать того не знаю,
И даже думать не хочу о том!
Вольф
Уйти? Извольте. Нам уйти не трудно.
Но до того, как двери затворить,
Я вас желаю отблагодарить
За этот вечер, проведённый чудно.
Мы за столом делили с вами хлеб;
Я впечатлён идиллией такою, —
И в благодарность вам сейчас открою
Финалы ваших будущих судеб.
Ольтенбах
Не надо.
Вольф
Надо. Надо, повторяю!
Роттенштейн
Не надо! Нет! Молчите! Нет же!
Вольф
Да.
Теперь прошу вниманья, господа:
Я повесть о грядущем начинаю.
Молчание. Вольф поочерёдно смотрит каждому из шестерых в лицо
Куда ни глянь — один животный страх.
С кого начнём? Со Штауба, хотя бы.
Вот он стоит, с лицом оттенка жабы,
Едва держась на гнущихся ногах.
Его судьба до пошлости проста:
В сумятице застольного угара
Кровь хлынет вдруг струёю изо рта,
И Штауб станет жертвою удара.
Бедняга Венцель воевать пойдёт,
Желая тем дела свои поправить, —
И в первом же сражении падёт,
Успев себя лишь буйствами прославить.
Ты, Ольтенбах, недолго проживёшь:
Дня через три один задира ловкий
В бессмысленной кабацкой потасовке
Меж рёбрами тебе загонит нож.
Ты, Роттенштейн, молись своей удаче,
Которая тебя не подведёт,
Но к титулу барона приведёт
И сделает во много раз богаче.
Людьми порок неумолимо движет…
И вот тебя, который дальше б рос,
Погубит клеветнический донос,
Который Арндт из зависти напишет.
А сам же Арндт, как похотливый скот,
И дальше будет самок крыть примерно, —
И в результате — что закономерно —
От mal francese заживо сгниёт.
Остался Ганзен. Этот будет пить,
Пока не доведёт себя до точки;
В один из дней, когда откажут почки,
Он в ад пойдёт. И так тому и быть!
Молчание
Теперь, когда зачитан приговор,
Герольд обязан молча удалиться,
Чтоб дать возможность вдоволь помолиться
Тем, для кого уже вострят топор.
Пир удался. Виват!
(Фаусту)
Теперь уйдём.
Покинем сей гостеприимный дом.
Уходят
СЦЕНА ШЕСТАЯ
Ночная улица. Фауст и Вольф
Вольф
Вы опечалены как будто?
Фауст
Я угнетён великим горем.
Такая в сердце тьма сгустилась,
Что мрак ночной в сравненье с нею —
Весенний день в сиянье солнца.
Вольф
А что случилось?
Фауст
Неужели
Спокойно вам?
Вольф
Да как обычно.
Фауст
И всё, что там происходило,
Страданьем душу вам не полнит?
Вольф
О, я привык к подобным сценам.
Фауст
И это больше чем заметно.
Вольф
Где б ни был я, — везде и всюду
Одною ниткой люди шиты.
Я повидал краёв немало.
Шагами вымерил Европу,
Вкушал плоды обеих Индий,
Горстями пил из рек Китая,
Блуждал в пустынях африканских,
Входил в дворцы персидских шахов, —
И зрел везде одно и то же:
Уродство душ, растленье плоти,
Недуги разума и гибель.
Тут налицо закономерность:
Что человек предпочитает,
К тому усилья и приложит.
Фауст
Я, кажется, предвижу вывод.
Вольф
Не сомневаюсь. Очевидно,
Что человек стремится к скверне.
Других — один на миллионы;
Они, скорее, исключенье,
Чем правило. Они уроды
Средь тем и тем людей обычных.
Судите сами. Повсеместно
Творятся мерзости такие,
Что небо морщится гадливо.
Кто раз хотя бы попытался
Плоть обуздать, умерить похоть,
Когда представилась возможность
Для купидоновой забавы?
Кто в мире служит бескорыстно?
Кто не солжёт, не явит подлость
Во имя выгоды, тщеславья,
Из сластолюбья или страха?
Кто не согласен пресмыкаться,
Продать стараясь подороже
Своё достоинство и совесть?
Кто предпочтёт смиренье гневу,
Гордыне — кротость, лжи — невзгоды?
Никто. И это вам известно.
Я не прилгнул ни на пылинку.
Им «нравственность» — пустое слово.
Они смеяться долго будут
В ответ на те увещеванья,
Что вы произнести могли бы.
«Как? Совесть? Это что такое?
Она не выручит в несчастье,
Не обогреет, не накормит,
Богатства, славы не доставит,
И не подарит наслажденья.
Она — для слабых утешенье;
Бесплотный миф; преданье; сказка».
Я говорю, любезный доктор,
И повторю пред кем угодно:
Порок — стихия человека.
Он за порок держаться будет,
Что вы взамен ни предлагайте.
Он — как червяк в навозной куче,
Где и тепло ему, и сытно.
Он сожаления не стоит,
Тем паче — скорби и страданий.
Он то избрал, что сердцу мило;
Дадим ему на это право.
Не стоит вмешиваться, доктор;
Оставим это право Богу.
Фауст
Но человек — Его творенье.
Не мог Создатель ошибиться,
Творя для рая человека
И в то же время допуская,
Чтобы творенье оказалось
С заметной адскою гнильцою.
Дух человека чист и вечен.
Вольф
Реальность, логика и чувства
В обратном ясно убеждают.
Фауст
Но не меня.
Вольф
Во всяком деле
Случиться может неудача.
Создатель славно потрудился,
Вложив в последнее творенье
Всё наилучшее. Однако
Творенье то строптивым вышло.
Здесь нет причины удивляться.
Подобному примеров много.
В семье приличной, богомольной,
Бывает, вырастает чадо,
Исполненное всех пороков,
Которому кнуты и петля —
Финал заслуженный.
Фауст
Как будто
Разумны ваши рассужденья.
Однако ж сердце протестует.
Оно поверить не способно
В такую низость человека, —
Сего прекрасного созданья,
Венца и гордости Природы.
Я грешен сам, притом немало;
Но знаю подлинно: пороки
Как снег весенний преходящи.
Едва меж туч проглянет солнце —
И снега нет: потёк, растаял.
Так солнце есть и в человеке, —
И у него достанет силы
Чтоб одолеть свои пороки
И мир украсить совершенством.
Я даве слушал вас; теперь же
Моей поэзии внемлите.
Декламирует
Река, зовущаяся «Вечность»,
Что воды катит в бесконечность,
Тебя узрев, смиряет бег,
И задаёт недоуменно
Вопрос задумчивой Вселенной:
«Да что ж такое человек?».
Ты, кто явил своим обличьем
Борьбу ничтожности с величьем,
Ты плотью — червь, душою — бог.
И глубину твоих падений
И выси дерзких восхождений
Когда и кто измерить мог?
В тебе смешались зло и благо,
Неукротимая отвага
И униженья полный страх.
Сегодня — смерти неподвластен,
А завтра, слаб, убог, несчастен,
Ты повергаешься во прах.
Горнило всех противоречий,
Красот исполнен и увечий,
Своей души не зная сам,
Ты гневно землю сотрясаешь
И небо внемлить заставляешь
Своим угрозам и мольбам.
Ты сил сплетенье многоликих —
То необузданных и диких,
Способных горы сокрушить,
То затихающих покорно.
И лишь одно, одно бесспорно:
Тебе грядущее вершить.
Ты получил от Мирозданья
Великий гений созиданья.
Простри ж его хотя бы раз
Одним усильем вдохновенным —
И мир предстанет совершенным,
Прочней и чище, чем алмаз.
Твоё призвание высоко.
Тебе не быть рабом порока
И не покорствовать ему.
Коль тьма смешается со светом,
Она падёт в сраженье этом,
И свет собой наполнит тьму.
Пускай ты слаб и двойствен ныне —
Однажды ты взойдёшь к вершине
И не падёшь уже вовек.
И воспоёт хорал Вселенной,
Ликуя в песне упоенной,
Твоё величье, человек.
Вольф
Я ожидал, признаюсь честно,
От вас чего-то в этом роде.
Однако ж вы неосторожны.
Здесь для поэзии не место, —
Притом настолько громогласной.
Из переулка выходят четверо
Ну вот, готово. Не угодно ль?
Своим глаголом вдохновенным
Вы о себе оповестили
Трудяг невидимого цеха,
Которого деянья славны.
1-й грабитель
(Вольфу)
Что ты бормочешь?
Вольф
Пропустите.
2-й грабитель
Вынимая нож
Мы собираем подаянье
У припозднившихся прохожих.
Вольф
Иль лучше пошлину за пропуск.
Фауст
Я вышел из дому без денег.
Вольф
А я при деньгах. Да желанья
Расстаться с ними не имею.
2-й грабитель
Ну что ж, ребята: за работу!
Начинают окружать их. Вольф поднимает руки; из ладоней его ударяют молнии, а изо рта выходит язык огня. Грабители в панике убегают
Фауст
Так вот ты кто…
Мефистофель
К твоим услугам.
Фауст
Бедняга Шпеллер ошибался:
Действительность намного хуже.
Мефистофель
Мы тут беседу и продолжим?
Фауст
Зачем ты здесь? Чего ты хочешь?
Мефистофель
Пока — поговорить. А дальше —
Как дело наше повернётся.
Фауст
Что ж, после стольких разговоров
Тебя уже пугаться поздно.
Рискнём ещё один прибавить.
Идём же.
Мефистофель
Это мне по вкусу.
СЦЕНА СЕДЬМАЯ
Кабинет Фауста. Фауст и Мефистофель
Фауст
Итак?..
Мефистофель
«Итак»… Обширней слова нет.
В нём и конец, и всякое начало.
В нём далей зов и тяготы пути,
И торжество одержанной победы,
Уверенность, растерянность и страх,
И глас беды, стоящей на пороге,
И жизнь, и смерть. Оно вмещает всё, —
И бывшее, и будущее разом.
Фауст
Кто ты такой — нетрудно угадать.
О вашем брате всяк наслышан больше,
Чем о любой из нынешних наук.
Ни грамоты, ни Библии не зная,
Любой слепой и немощный старик
В таких делах — профессор, да и только.
Мефистофель
Науки — дым, игрушка для ума.
Они подобны вышивке искусной:
Всяк шьёт красиво, — а узор другой.
Народ — мудрей и много прозорливей.
Мы существуем, — он и видит нас.
Зачем ему выдумывать и спорить,
Доказывать воззрения свои,
Писать о них заумные трактаты,
Когда везде, куда ни посмотри,
Отыщешь нас? Тут бытие предмета
Доказано предметом же самим.
Фауст
Доказано… Так, значит, это правда,
О женщинах, что вводятся во грех,
О шабашах, о страшном договоре,
Которого немыслимой ценой
Возможно обрести богатство, славу,
И прочее, чего ни пожелай?
Мефистофель
Ну, как сказать… Не без того, конечно.
Но здесь забавней дело обстоит.
Святоши ваши — патеры, прелаты
И всё разнообразие попов —
Под чёрной и глухой своей сутаной
Скрывают всё того же мужика.
Всё — скорлупа; не более чем маска.
Сутана ли иль бархатный камзол,
Хоть горностай, — внутри мужик таится,
Притом что суеверие его
Имеет много больше оснований,
Чем каждая из признанных наук.
И эти-то святейшие мужланы,
Терзаясь страхом перед Сатаной,
Всё, что умам их тёмным непонятно,
В отчаянье приписывают нам.
Да это бы не так ещё и худо:
По крайности, и то сойдёт за честь.
Так ведь они плоды своих фантазий,
Ночных кошмаров и порочных грёз,
И разные нелепейшие бредни,
И выдумки отъявленных лжецов,
И всякое, о чём и вспомнить тошно,
Самозабвенно валят на чертей.
Книжонки пишут и кричат с амвонов,
Друг в друге новый порождая страх.
Среди того, что о чертях болтают,
И половины подлинного нет.
Хоть клевета — injuria verbalis,
И подлежит законному суду,
Да где найти таких умелых стряпчих,
Чтоб выиграть у глупости процесс?
Один лишь раз обиженные черви
В ответ подать рискнули встречный иск,
Желая защититься от изгнанья, —
Да проиграли.
Фауст
Слушая тебя,
Я странное переживаю чувство:
В душе слились и торжество, и страх,
И недоверие, и изумленье,
И жажда знать. Не ведаю и сам,
Что отвечать.
Мефистофель
Так помолчи, пожалуй.
Как ты смешон, нелепый человек!
Ты сам в себе не можешь разобраться,
Привесть к порядку путаницу чувств,
Там разорвать, где их нельзя распутать,
И там связать, где разорвала жизнь, —
А между тем Вселенную желаешь
Исследовать, познать до мелочей,
Найти рецепт и осчастливить прочих,
Таких, как сам, — блуждающих в себе,
Убогих мыслью и безумных Духом.
Фауст
Тебе ясны стремления мои.
А если так, то ты не знать не можешь
Той силы властной, королевы сил,
Что неуклонно мной в исканьях движет.
Изгнав из рая первую чету,
Господь взамен оставил ей надежду.
С тех самых пор она врачует нас,
Дарует нам терпенье и отвагу.
Поистине, когда бы не она,
Никто б не мог перенести страданий,
Достигнуть цели, сделать что-нибудь,
Или хотя б остаться человеком.
Я, замерев над бездной Бытия,
В одной надежде нахожу опору, —
В надежде дерзкой перекинуть мост
И по нему пройти от жизни к Жизни.
Молчание
Мефистофель
Что ж… Нам с тобой и правда по пути.
Ты разгадал моё явленье верно,
И я, гляжу, не зря пришёл сюда.
Фауст
Но что тебе понадобиться может
От Фауста, который никогда
На преступал Господнего завета?
Мефистофель
Вот это-то меня и привело.
Кому нужны служители пороков?
Там дело ясно; их проложен путь;
Они свою судьбу уже избрали.
Кто дна достиг, тому уже не пасть;
Он даже нам, чертям, неинтересен.
С тобой — иначе.
Фауст
Надо полагать,
Недаром ты трудился терпеливо, —
Проник обманом в университет,
Изображал студента месяцами,
Ловушки плёл, заманивал меня…
И вот настиг. Скажи: чего ты хочешь?
Мефистофель
Хочу помочь. Сопроводить в пути.
Фауст
Помочь?
Мефистофель
Помочь. Не стоит удивляться.
Ты пожелал высоко вознестись, —
А я желаю дать тебе возможность
Преодолеть положенный предел
И испытать превратности дороги.
Фауст
Скажи яснее.
Мефистофель
Знаешь ты и сам,
Что Сатана над душами не властен.
Мы силой никого не тащим в ад.
Коль человек падения желает,
Мы помогаем, — только и всего.
Сказать иначе — в каждом человеке
Заложена частица Сатаны.
Как огонёк едва заметный тлеет.
Кто доставляет топливо ему,
Лелеет и усердно раздувает,
Тот неизбежно порождает ад
В самом себе. И ад стремится к аду;
А мы ему указываем путь.
Мы — нити путеводные, не больше;
Не увлекаем: только лишь ведём.
Фауст
Так что ж со мной?
Мефистофель
Иди, куда стремишься.
Тебе я буду не проводником,
А лишь слугой, пособником, искусным
В таких делах. Я помогу тебе
Покинуть то стоячее болото,
В котором ты состариться готов
И умереть, смирившись с неизбежным.
Так, опираясь на моё плечо,
Ты совершить сумеешь восхожденье
К вершине той, какой достичь мечтал.
Но если вдруг стремление угаснет,
Иль подведёт тебя неверный шаг,
Иль, скажем, ты оступишься на круче,
В своей разочаруешься тропе
Иль цель твоя тебя разочарует,
Тогда — конец. Свалившись с высоты,
Ты тяжестью своей проломишь землю
И — прямо в ад. И не моя вина,
Что кто-то там жестоко обманулся,
Иль помощь так использовал мою,
Что сам себя с небес в геенну сбросил.
Здесь будет всё зависеть от тебя:
Не станет сил телесных и душевных —
Так, значит, сам себя ты обманул,
Избрав удел, которого не стоишь.
Молчание
Фауст
Ты мастерски капкан соорудил.
Мефистофель
Да, lege artis. Но заметь, однако,
Что сам же ты и есть себе капкан.
Я повторю: дальнейшее зависит
Лишь от тебя. Ты сам и положил
В него приманку. Коль в себе сумеешь
Частицу преисподней погасить,
Тогда и путь окончится триумфом,
Подобного которому не знал
Ни персов царь, ни император Рима.
А если нет — тогда с тебя и спрос.
Я перекину вожделенный мостик;
Сорвись с него, — кто будет виноват?
А впрочем, я тебя не заставляю.
Лишь откажись — и я исчезну вмиг.
Молчание
Фауст
Нет: поздно. Я уже в плену капкана.
Отказ одно лишь может означать:
Начальный шаг позорного паденья.
Попался я, — и не заметил сам.
Мефистофель
Но разве ты не можешь ошибаться?
Неужто ты один на всей земле
Увидел цель, достойную тружданий?
Зачем страданья, беспримерный риск
Во имя тех, кому и дела нету
Ни до тебя, ни даже до себя?
Подумай сам: когда бы нужно было
Переменить течение вещей,
Ужель Господь тебя бы дожидался?
Кто ты такой? Ничтожество, блоха,
От праха прах. И ты поверить хочешь
Своим умом Божественный Закон?
И цель твоя — ужель не богохульство?
Не думал ты, что всё вершится так,
Как то Творцу Всевышнему угодно?
Поистине, ты сам себе капкан!
Приманка — цель. Пойми ж: ещё не поздно
Опомниться и отойти назад,
И избежать трагической ловушки.
Ты выдумал занятие себе,
Желая тешить скрытую гордыню.
Так откажись. Сверши достойный шаг.
Яви и благочестие, и силу.
Фауст
Но я тому поверить не могу,
Что Господу угодно мракобесье,
Пороки, зло, засилие вражды.
Создатель — благ: иначе быть не может.
А это всё — тяжёлая болезнь,
Проказа душ. И я ищу лекарство.
Мефистофель
Так подожди. Ведь, может быть, Господь
Недугом сим карает недостойных.
Быть может, это — наших дней потоп,
И наш Творец, нуждаясь в новом Ное,
Избрал тебя. Построй себе ковчег —
Просторный, прочный, укреплённый верой —
И бедствие спокойно пережди.
Настанет день, когда утихнет буря,
Уймётся ветр, проглянет солнце вновь, —
И новый Ной положит основанье
Людскому роду, восхвалив Творца.
Фауст
Я убеждаюсь: нет во мне гордыни.
Твои слова не трогают меня.
Я — новый Ной? Нелепей измышлений
Не видел мир. Я — это только я,
Не более. И если неугодны
Всевышнему дерзания мои,
То он меня окоротить сумеет.
Мефистофель
Как ты упрям. Да знаешь ли, куда
Направил шаг? Не в силах человека
Преодолеть страдания, труды
И тяготы, грозящие безумьем,
На том пути, который ты избрал.
Твоё стремленье есть самоубийство.
Не должен ни один христианин
Идти на это. Вышние законы
Являют недвусмысленный запрет.
О, как ты слеп, когда воображаешь,
Что можешь, совершая тяжкий грех,
Служить добру и исцелить кого-то!
Фауст
Смерть ради жизни — разве это грех?
Что ж до препон, тружданий и страданий,
То самая обыденная жизнь
Из них одних и состоит на деле.
Мы каждый день точим кровавый пот, —
И для чего? Каких стремлений ради?
Чтоб не тощал злосчастный кошелёк;
Чтоб телу обеспечить тёплый угол,
А брюху — сытость, зрелища — глазам,
Тщеславью — упоение и негу,
И похоти — богатый выбор блюд.
Ведь это счастье, — низменные цели
Сменить на цель, достойную того,
Кто хочет называться человеком.
Такая цель на подвиг вдохновит,
Умерит боль и облегчит страданья,
И силы даст на тяжкие труды.
Да, силы отмеряются по цели:
Ничтожна цель — ничтожен человек,
И Дух его, и храбрость, и терпенье;
Цель велика — и человек велик,
В нём — океан неизмеримой мощи.
Поэтому страшиться нет причин.
Ну, а погибну, — значит, не напрасно.
Я вырос из мира
Учёных невежд,
Как некогда вырос
Из детских одежд.
Сквозь стены, запоры
И вымысла муть
Я чую просторы,
Я чувствую путь.
Я знаю, что где-то —
Не близко, не здесь —
Извечного света
Владения есть.
И жизни лишиться
В уплату не жаль
За право стремиться
В зовущую даль.
Мне только и надо
Возможность идти.
Простую отраду
Хочу обрести:
Чтоб сильные ноги
Шагали вперёд
По верной дороге,
Что в Вечность ведёт.
Мефистофель
Бродяга ютится
Под чахлым кустом.
Ему и темница —
Отеческий дом.
Ты грезишь о воле,
Ты привязи рвёшь;
Но это — не боле
Чем кажимость, ложь.
Видение рая
Маячит вдали,
Призывно мерцая
У края земли.
Ты будешь упрямо
Стремиться к нему, —
Чрез камни и ямы,
И стужу, и тьму.
Немало заплатишь
За этот мираж:
И разум истратишь,
И душу отдашь.
А бренное тело,
Шагая вперёд,
Достигнет предела
И лоб расшибёт.
Неужто вправду полагаешь ты,
Что где-то есть желанное лекарство?
А если есть, то знания к нему
Не приведут. Они умножат горе.
Ты знаешь сам, что найденный ответ
Рождает сонмы каверзных вопросов,
В которых безнадежно тонет ум.
Лекарство может обернуться ядом, —
И обернётся. Лучшие умы
Бежали знаний, видя в них опасность,
Прямое зло. На этом вот столе
Я нахожу объёмистую книгу,
Похожую на тяжкий монолит,
Своею массой мир вдавивший в землю,
И ставшую надгробием ему.
Ты назубок её страницы знаешь, —
Так вспомни, что начертано на них.
Декламирует наизусть
«Говорил я сердцу своему:
Вот, я возвеличился, и мудрость
Больше всех великих приобрёл,
Бывших до меня в Ерусалиме;
Много сердце видело моё
Мудрости и знания. И сердце
Я предал познанию того,
Что зовётся мудростью, а также
Глупость и безумие познал:
Это всё — одно томленье духа.
За великой мудростью всегда
Следуют великие печали;
Кто умножит знания свои,
Тот и скорбь умножит непременно».
Что возразить осмелишься на это?
Ужели обвинишь в неправоте
Того, кому и в слуги не годишься?
Фауст
Скажу, что он — всего лишь человек,
И слабость знал, и тоже ошибался.
Мефистофель
Так значит, ты дерзнул его судить?
Фауст
Жизнь судит нас. И я предстать согласен
Перед её безжалостным судом.
Мефистофель
Послушай-ка. Я знаю верный способ
Достичь того, к чему стремишься ты,
Минуя муки, тяготы, тружданья,
А главное, — изжив смертельный риск
И самую возможность неудачи.
Фауст
Как? Говори.
Мефистофель
Влияние моё
Объемлет мир, подобно паутине,
Которую старательный паук
Умело сплёл вокруг куста сухого.
Поступим так: я проведу тебя
Из этих стен, из тупика глухого,
Юдоли прозябанья твоего,
За шагом шаг, к таким вершинам власти,
Каких ещё не ведал человек.
И Фауст-царь, владыка поднебесий,
Почти что Бог, сумеет утвердить
По всей земле закон и справедливость,
Исправить нравы, души исцелить
И насадить сады с плодами блага.
Согласен?
Фауст
Нет. Ты сам же говорил,
Что черти в ад дорогу указуют.
Когда тропа протоптана тобой,
То смысла нет по ней к добру стремиться:
Здесь всё — обман. И дерева в саду
Трухлявы будут, и плоды червивы.
Да я и сам… Таков ли буду я,
Каким благой властитель быть обязан?
Я не пройду назначенным путём,
Не выжжет труд во мне пороков семя,
Страдания меня не закалят,
Познание не сделает мудрее.
Чем буду я? Не тенью ли твоей,
Движенья повторяющей послушно,
Идя вослед, без воли и ума?
Нет; я себе уже избрал дорогу.
Пусть будет то, что совершить смогу.
Коль пасть — так пасть, а коль парить — так вольно,
Своею кровью это заслужив.
Ты власть сулишь? Да разве можно властью
Добро, любовь и мудрость насадить?
И как возможно власть принять, не зная,
Каков ты сам, себя не испытав,
Не убедившись, что её достоин?
Нет, я хочу сквозь тернии пройти,
При сём взыскуя не регалий власти,
А эликсира, чтоб изжить недуг,
Несчастный мир терзающий веками.
Я — врач простой; мне ни к чему венцы,
И горностай, и цесарские троны.
Мефистофель
Не хочешь власти — так тому и быть.
Но не желаешь ли чего другого?
Фауст
Желаю помощь от тебя принять
Обещанную. Большего не надо.
Мефистофель
Не надо? Что ж, тогда — в недолгий путь.
Хотя его и начинать не стоит.
Ну, десять лет, ну, двадцать, двадцать пять:
А дальше — гроб. И все твои порывы
Задохнутся в могильной духоте.
Фауст
Ах, если бы…
Мефистофель
Ну, говори смелее!
Фауст
Есть у меня давнишняя мечта…
Мефистофель
Вот, наконец! Не трать слова напрасно.
Мне ведомы мечтания твои.
Вот так всегда: стараешься, хлопочешь,
Угадываешь суть заветных грёз, —
И что по сём имеешь в благодарность?
Устроишь так, чтоб чьи-нибудь мечты
Осуществились, — он в итоге гибнет,
А выглядит случившееся так,
Как будто ты в несчастии повинен.
Нет, верный способ извести людей, —
Им помогать осуществлять желанья.
Да мы ведь так и действуем.
Фауст
Постой.
Когда тебе моя мечта известна,
Что из того?
Мефистофель
Мы воплотим её.
Ты будешь жить, покуда не устанешь,
Пока душа не исчерпает сил,
Покуда страстно не захочет смерти.
Тогда меня о смерти попроси, —
И я в последний раз приду на помощь.
Фауст
Согласен я. Но разве может быть,
Чтобы бессмертье тяготило душу?
Она расправит сильные крыла
И воспарит в пространствах беспредельных
Извечной жизни, досягая сфер,
Незримых даже мысли вездесущей.
Я предвкушеньем этим упоен
Настолько же, насколько был недавно
В отчаянье, предвидя смертный час.
Мефистофель
В отчаянье?
С горечью смеясь
Да ты его не знаешь.
О счастье: жить, предчувствуя конец,
Уверенно идя к отдохновенью
От всех страданий, тягот и забот.
О наслажденье: каждую минуту
Осознавать возможность умереть,
Бежать от мира и себя навечно.
Нет ничего бессмертия страшней.
«Отчаянье» — его второе имя.
Объятья Вечности сжимают так,
Что не вздохнуть. Слепая безысходность
Безумья просит, — но бессмертный ум
Не ведает и этого спасенья.
Когда бы мог я у тебя просить
В обмен на жизнь обратную услугу!..
Молчание
Фауст
О Небо!.. Кто бы мог подозревать…
Мефистофель
Но полно. Будет… Возвратимся к делу.
Фауст
Я подписать согласен договор.
Хотя бы ты потребовал и душу, —
То будет невеликая цена.
Тот обладать душою недостоин,
Кто ею не пожертвует тогда,
Когда такой единократной жертвой
Спасти возможно мириады душ.
Что я один пред человечьим родом?
Такой потери не заметит он.
Мефистофель
Охолони. Не состоится сделка.
Фауст
Нет?
Мефистофель
Нет. Она уже заключена.
Ты опоздал.
Фауст
Но где и кем?
Мефистофель
Об этом
Не спрашивай. Довольно и того,
Что дело совершается законно,
Притом ещё с гарантией такой,
Подобной коей прежде не бывало.
Фауст
Так что ж теперь?
Мефистофель
Решенье за тобой.
Каким, скажи, деянием достойным
Откроешь ты свершения свои?
Фауст
Не знаю сам. Ничто нейдёт на мысли…
Мефистофель
Вот и мораль. Ничтожный мотылёк
В пространствах беспредельных затерялся:
Ни вверх, ни вниз, ни в стороны. Увы!
Зачем клопу просторы океана,
Коль он рождён для трещины в стене?
Дерзай, стремись! Оставь своё жилище,
Достаток свой, своих учеников.
Минувшее тебя обременяет;
Оставь же всё и поспешай за мной!
Фауст
О, как ты прав! Былого не разрушив,
Не возвести грядущего чертог.
Всё, всё раздать, что я за годы нажил;
Сбить цепи положенья своего, —
И, налегке, в желанную дорогу!
Мефистофель
Ну, наконец-то! Воспоём союз
Намерений, стремлений и надежды.
Фауст
Как звать тебя?
Мефистофель
Не всё ль тебе равно?
Хотя изволь: зовусь я Мефистофель.
Доволен ты?
Фауст
Ещё единый взгляд
На этот дом… Как будто рвётся что-то
В моей груди… Отсюда ухожу, —
А мнится, что со всем прощаюсь миром.
Выходит; вслед за ним выходит Мефистофель
ПРИМЕЧАНИЯ
К сцене второй
«Вначале небо создал Бог и землю…» — Книга Бытия
«Люди, вы слышали, сказано: «Око за око…» — Евангелие от Матфея
«Сущность религии этой, которой нам следовать должно…» — Блаженный Августин, «Об истинной религии»
«Бог, пожелавши сколь возможно больше…» — Платон, «Тимей»
«Вполне понятно, что имеется начало…» — Аристотель, «Метафизика»
«Душа по природе свободна от всякого зла...» — Плотин, «Эннеады»
«Во имя Аллаха, что милостив и милосерд…» — Коран
«Затем меня подъемлят те мужи…» — Книга тайн Еноха
«После спросил я: «О Господи, славу какую…» — Тайная книга Богомилов
«Едва Господь, моим мольбам внимая…» — Книги Сивилл
«Израиля Кнессет таки слова говорит…» — Рабби Шимон бар-Йохай, «Зогар»
«Истинно, действительно и верно…» — «Изумрудная Скрижаль» Гермеса Трисмегиста
«Вот таинство: саму себя змея…» — Фрагмент греческой рукописи, приписываемой Зосиму из Панополиса, IV в. н. э.
«Дух, наделённый подлинной способностью…» — Боэций, «Комментарий к Порфирию, им самим переведённому»
«— Есть в воле истина, и Истина сама…» — Ансельм Кентерберийский, «Об истине»
«Знание же абстрагированное поймём мы двояко…» — Оккам, «Виды знания»
«Марс силой ратной угрожает нам…» — Нострадамус, «Центурии»
«Вселенной жизнь едина по природе…» — Парацельс, «Философия к афинянам»
Фосфор — греческое название Венеры как утренней звезды (лат. «Люцифер»)
К сцене третьей
Quantum satis — лат. «сколько хочется, вдоволь»
К сцене четвёртой
Малефик — вредитель, вершитель зла (в значении «колдун, пособник дьявола»)
Ne varietur — лат. «изменению не подлежит»
К сцене пятой
Mal francese — итал. «французская болезнь», сифилис
К сцене седьмой
Injuria verbalis — лат. «оскорбление словом»
Один лишь раз обиженные черви // В ответ подать рискнули встречный иск, // Желая защититься от изгнанья, — // Да проиграли. — Во время нашествия на Лозанну саранчи и червей лозаннский епископ официально вызвал упомянутых вредителей в суд. Им был дан защитник, и от их имени был подан встречный иск и возбуждено дело против епископа. Но последний выиграл процесс, и подсудимые были навеки прокляты.
Lege artis — лат. «по всем правилам искусства, мастерски»
«Говорил я сердцу своему…» — Книга Екклесиаста