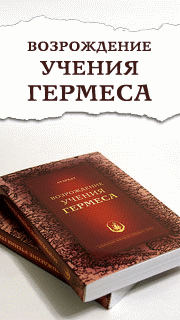1972-1998 годы
Родился я в 1972 году, в Беларуси (тогда ещё — в Белоруссии, одной из республик СССР), в городе Гомеле. Предысторию своей семьи также опущу. Она для моего рассказа несущественна. Достаточно будет сказать, что родители мои — выходцы из деревни, в молодости переехавшие в Гомель, где я и появился на свет.
Мы жили тогда в микрорайоне, примыкавшем к протекающей через город реке Сож и называвшемся Монастырёк. Это несколько улиц и переулков, застроенных частными домами с маленькими двориками и огородами. Прежде там находилось поселение староверов, ассоциировавшееся у горожан с чем-то богомольным, монастырским; отсюда и пошло прозвание. Тамошних уроженцев до сих пор называют «монастырскими». В моё время прежних обитателей там уже почти не оставалось. Хотя по левую руку от нас жила как раз староверка, набожная старушка Матрёна Ивановна. О прошлом же напоминали лишь некоторые его следы. Так, однажды, вскапывая огород, моя бабушка откопала староверский крестик, который хранится у меня до сих пор.
Семья состояла из меня, моих родителей, бабушки (матери отца) и тёти (его сестры). Отец работал на заводе «Гомсельмаш». Там он оставался и все последующие годы, и вышел на пенсию в конце 2010 года. Мать окончила Строительное училище и работала изолировщицей. После моего рождения несколько лет не работала, потом вернулась в свою бригаду. Позднее она снова ушла оттуда, и много лет, тоже до самой пенсии, трудилась швеёй-надомницей, — так как ей приходилось всё время быть рядом со мной. Когда я родился, бабушка тоже ещё работала; она вышла на пенсию уже на моей памяти. Кроме этого, она занималась общественной работой: долгое время была председателем уличного комитета. Тётя же во времена моего раннего детства ещё училась в школе. Я тогда думал, что она моя сестра, — и, помню, страшно удивился, когда мне однажды объяснили, что это не так. Однако от привычки обращаться к ней на «ты» и звать просто по имени так и не избавился.
Я родился здоровым; но в раннем детстве со мной случилось то, что направило течение моей жизни в неожиданное русло. Это произошло внезапно. Именно внезапно: как рассказывают, ещё вечером всё было нормально, и я весело возился в своей кроватке, — а утром уже лежал совершенно неподвижно, и мог только водить глазами. Причины произошедшего остались не вполне ясны. Существует основная семейная версия, согласно которой имела место врачебная ошибка, и виною всему оказалась прививка, которую мне сделали накануне. Фактического подтверждения тому не имеется; тем не менее, эта версия была официально принята семьёй как единственно верная, и именно она озвучивается, когда возникает такая необходимость. Впрочем, подспудно бытуют и другие версии, — так сказать, неофициальные. Мне известны ещё две; излагать их здесь не буду.
Внятного диагноза мне поставить не смогли. Он менялся несколько раз, и я уже даже не помню, каким был последний. Когда меня повезли в Минск, на осмотр к какому-то видному специалисту, тот не смог сделать никаких определённых выводов и лишь развёл руками.
Поначалу паралич был полным. Спустя некоторое время он стал отступать. Когда мне было около трёх лет или чуть меньше, я даже мог, кое-как переставляя ноги, пройти несколько шагов, — если меня поддерживали под руку. Потом снова начал медленно слабеть. Силы уходили постепенно и незаметно, капля за каплей. Время от времени я обнаруживал, что уже не могу делать чего-то, что мог делать прежде: совершать какие-то движения, поднимать предметы, которые раньше мог поднимать, и так далее. К концу девяностых я ослабел настолько, что больше не мог управляться с ложкой и вилкой. И вот уже несколько лет, как не могу даже удержать в пальцах авторучку. К счастью, существует компьютер; а моих сил пока хватает на то, чтобы одним пальцем крутить шарик мыши-трекбола, а другим пальцем нажимать её кнопку, и набирать текст с экранной клавиатуры.
Это не жалобы, а констатация фактов. Я сейчас действительно так живу, и так пишу эти письма.
Вспоминаются времена, когда я писал чернилами. Просто так хотелось. Сначала использовал обычные когда-то, а к тому времени совершенно вышедшие из употребления, хотя и продававшиеся ещё в некоторых писчебумажных магазинах железные перья. Затем — чернильные авторучки. А потом один знакомый по моей просьбе привёз из деревни связку перьев, надёрганных из отправившегося в кастрюлю гуся. Под чернильницу была приспособлена миниатюрная стеклянная баночка, очень на неё похожая. Какое это было удовольствие — писать чернилами, с помощью настоящих гусиных перьев! В этом было нечто особенное, труднообъяснимое, для меня почти сакральное. Окружающие говорили: «Виктор оригинальничает». Конечно, меня трудно было понять, не зная тех ощущений, которые знал я. Зачем современному человеку, имеющему в своём распоряжении целый арсенал разнообразных письменных принадлежностей, мучить себя, возясь с затачиванием перьев и ежедневно отмывая с пальцев чернильные пятна? А затем. О чём я жалел тогда, так это о невозможности достать настоящий пергамент.
Но вернёмся к моей болезни.
Как я уже сказал выше, мой диагноз был неопределённым. В медицинской карточке было что-то написано, — но, скорее, просто потому, что в ней нельзя было не написать вообще ничего. Несмотря на эту неопределённость, меня интенсивно лечили. Мне пришлось пройти через многое, — от сотен и сотен витаминных уколов и укрепляющих микстур до разного рода массажей, от электростимуляции до лечебных грязей. Дважды мы ездили на лечение в Крым, в Евпаторию. Для того, чтобы оплатить первую поездку, пришлось продать отцовский мотоцикл; для того, чтобы оплатить вторую (вернее, чтобы вернуть деньги, одолженные на неё), родители продали свои обручальные кольца. Всё оказалось напрасно: не помогли ни крымские грязи, ни что-либо другое.
Попытки лечить меня — неизвестно от чего — продолжались лет до четырнадцати. Потом все устали и смирились. А мне всё это надоело до такой степени, что прекращение лечения меня только обрадовало, — тем более, что к тому времени я уже вполне осознал его бесполезность, и на улучшение своего состояния не надеялся. С тех пор если я и обращался к врачам, то только по поводу простуды или гриппа, — не считая, правда, ещё нескольких раз, когда возникли проблемы с сердцем. И хотя мне, вроде бы, полагается обследование и лечение каждые несколько месяцев, медики, обязанные этим заниматься, обо мне не вспоминают вот уже добрых двадцать лет с гаком, — словно бы я умер. Ну а меня это вполне устраивает, и я не напоминаю им о себе. Не вижу смысла.
Кстати говоря, по всем прогнозам я не должен был прожить больше двенадцати-тринадцати лет. Врачи прямо предупреждали об этом родителей.
Сейчас мне за сорок.
Семья очень переживала из-за моей инвалидности. К счастью, никто не заострял на ней моего внимания, и меня миновали связанные с этим детские моральные мучения. Я никогда не считал себя хуже других, никогда не задавался вопросом «Почему другие дети бегают, а я нет?». Раз бегают, значит, для них это нормально; раз я не бегаю, а сижу и играю с чем-нибудь или читаю книжку, значит, это нормально для меня. Сейчас я даже сам немного удивляюсь тогдашнему своему спокойному отношению к ситуации. Наверное, мне очень повезло, что дело обстояло именно так; могу представить, сколько бы я настрадался, будь всё по-другому.
Скучать не приходилось. У меня всегда хватало друзей, которые приходили ко мне играть. Даже почти неподвижно сидя на одном месте, я умудрялся быть заводилой: придумывал игры, распределял роли. Много рассказывал им, — пересказывал прочитанные книги, придумывал всякие истории. К тому же у меня было довольно много игрушек, — солдатиков и всего прочего. Так что у нас дома часто собирались большие детские компании, — временами по десять и более человек. Мамы моих друзей, бывало, удивлялись, почему их дети не бегут играть на улицу, а сходятся ко мне. Говорили: «Им там что, мёдом намазано?».
И всё же главным в моей жизни были книги. Я научился читать в пятилетнем возрасте. До сих пор помню, как это произошло. Уже зная буквы и читая отдельные слоги, я ещё не умел объединять их в слова. Однажды сидел и рассматривал картинки в детской книжке. И вдруг буквы, по которым время от времени пробегали мои глаза, начали как бы сами собой складываться в слова, и я стал понимать, что там написано. Это было самое настоящее чудо! Я тут же позвал маму и, торжествуя, стал читать ей вслух, — медленно, сбивчиво, но самостоятельно. Потом так и просидел над книжкой до самого вечера, не имея сил оторваться и прося только, чтобы мне позволили подольше не ложиться спать и дали бы ещё почитать.
С того дня я стал читать запоем. К десяти годам, кроме детской литературы, читал уже вполне взрослые приключенческие книги, вроде «Трёх мушкетёров», «20000 лье под водой», «Айвенго», «Последнего из могикан» и т.п. И читал быстро: книгу в пару сотен страниц проглатывал за один день. То же самое умудрялся проделывать и с более объёмными книгами, если мне никто не мешал.
Тогда же освоил и белорусский язык. Это родной язык моей семьи; только никто у нас на нём не говорил (хотя на слух понимали), и книг на нём не читал. А мне родители — уж не знаю, из каких соображений — наравне с русскоязычными детскими книгами покупали и белорусские. Поэтому читать я научился на обоих языках почти одновременно; а белорусское произношение усваивал, смотря передачи Белорусского Телевидения. Я и сейчас, наверное, один из всей многочисленной родни свободно читаю и говорю по-белорусски. Хотя говорю, надо признаться, несколько медленнее, чем по-русски, так как временами оказывается труднее находить нужные слова. Сказывается отсутствие разговорной практики: ведь мне никогда не доводилось поговорить с кем-нибудь на родном языке. В наших краях подавляющее большинство населения говорит либо чисто по-русски, как наша семья, либо на смеси русского и белорусского, иногда с вкраплением украинских слов.
Сначала родители не знали, что можно оформить учёбу на дому. Поэтому в школу я пошёл с запозданием на год. Конечно, в самой школе я не бывал; меня несколько раз в неделю посещала учительница, — классная руководительница класса, в который меня формально зачислили, — преподававшая мне учебную программу.
Едва я научился писать, обнаружилась странная вещь: не зная ни одного правила, писал практически без ошибок. Мог написать произвольный — т.е. из головы — текст объёмом в тетрадную страницу (для первоклассника это немало), и учительница не находила в нём ни одной ошибки. Это чрезвычайно удивляло и её, и последующих учителей. Потому что с заучиванием правил у меня всегда были проблемы. Письменные задания я выполнял на пятёрки (иногда — на четвёрки, если спешил и допускал описки, или портил буквы, обводя их по много раз, отчего они превращались в жирные каракули); но когда должен был заучивать и отвечать правила, то, бывало, скатывался на тройки. Правила худо-бедно отвечал, после чего тут же забывал их. В конце-концов мне просто перестали их задавать, а по поводу моей способности писать без ошибок вынесли вердикт: «врождённая грамотность». Не знаю, существует ли такое явление в действительности. Думаю, что нет.
Оценок ниже тройки я не получал вообще ни разу, ни по одному предмету. И не потому, что всё мне давалось легко. Алгебра, геометрия и химия давались мне с большим трудом; я их терпеть не мог, и буквально грыз, изо всех сил напрягая ум. Просто я очень боялся получить двойку. Даже не могу сказать, почему. Мне это никакими особыми неприятностями не грозило, — разве что родители пожурили бы немного. Однако получение двойки казалось чем-то ужасным и невообразимо позорным. Поэтому я всегда очень старательно готовился. Ну а потом, в старших классах, старался уже потому, что не хотел портить своё реноме в собственных глазах.
В первый класс я пошёл в Монастырьке. Потом мы переехали в другой район, в малосемейку, полученную отцом. Наш дом стоял вплотную к территории завода «Гомсельмаш», и прямо перед окном торчали заводские трубы. Затем мы получили двухкомнатную квартиру на окраине города, где и живём до сих пор. Только теперь это уже сложно назвать окраиной. Тогда вокруг нашего дома были, по большей части, пустыри, а окна выходили на колхозный сад, находившийся в нескольких сотнях метров. Туда все местные — и дети, и взрослые — ходили воровать яблоки. Сейчас это плотно застроенный и довольно оживлённый район, стяжавший дурную славу одного из самых неблагополучных в криминальном отношении районов города.
Здесь я отучился в оставшихся классах и окончил школу.
Трудно описать, с каким нетерпением я ожидал её окончания. Учиться я не любил (нравились только биология, история и литература), и к занятиям относился как каторжник к каторге. Казалось бы, они должны были занимать мой досуг и помогать мне не скучать. Нет. Я и так никогда не скучал. Своё время я делил между чтением, друзьями и разными увлечениями, вроде выжигания по дереву или попыток выпускать самодельные журналы, — и мне его всегда катастрофически не хватало. Учёба воспринималась как нечто лишнее и досадное, отнимающее время от более увлекательных дел, — например, от того же чтения, в познавательном плане гораздо более для меня интересного, чем школьная программа, которую я пихал в себя с трудом и намеревался забыть сразу же по окончании школы. К знаниям я стремился, и очень, — ведь они были моим окном в мир. Но я хотел изучать только то, что сам считал важным для себя. Уже один факт того, что кто-то навязал мне программу обучения, и я должен ей следовать, ковыряясь в том, что мне неинтересно, вызывал в душе возмущение.
Тут отойду от магистральной линии рассказа, поскольку, как кажется, настал подходящий момент для того, чтобы уделить некоторое внимание своему тогдашнему характеру, — т.е. времён детства и юности. Для автопортрета, даже набросанного бегло, это необходимо.
Прежде всего следует отметить, что с самого раннего детства я твёрдо усвоил ряд правил: всегда быть честным и ответственным, не мошенничать ни в чём и никогда, не врать, держать слово, не делать подлостей, свято хранить тайны. Их мне преподала мать. И поскольку они совпали с тем, что хранилось в моём подсознании как наследие прошлого опыта, и были восприняты мною как нечто само собой разумеющееся, я принял их сразу и бесповоротно в качестве основы для своей жизни. Однако это имело и обратную сторону: сделало меня в таких вопросах бескомпромиссным и упрямым. Можно спросить: что здесь плохого? В общем-то, ничего. Но ведь только кажется, что если это хорошо — то и хорошо, и всё замечательно. А на самом деле в жизни постоянно возникают моменты, когда оказывается выгодно или для чего-то необходимо соврать, в чём-то смошенничать, не сдержать слова, поступить некрасиво по отношению к кому-то. Да что я вам рассказываю? Кто не попадал в такие ситуации? Это известно каждому. Как известно и то, что быть принципиальным нелегко, и что это создаёт в жизни множество проблем как самому носителю принципов, так и окружающим его людям. Ну а меня угораздило стать таким, будучи ещё ребёнком. И поскольку меня окружала реальная жизнь, часто подкидывавшая свои искушения — от которых не свободны и дети — или требовавшая не совсем этичных поступков, а я не желал поддаваться, то и поведение моё в глазах окружающих нередко выглядело как форменное упрямство. Конечно, тогда я ещё не имел представления о таких понятиях, как мораль и этика. Для меня всё было значительно проще: я знал, какие поступки являются плохими, и не хотел поступать плохо.
Никто, конечно же, не заставлял меня поступать плохо. Просто я был маленьким идеалистом, — и это накладывало свой отпечаток на мои отношения с окружающими.
Хорошо, что я при этом не был капризным. Не хныкал, отказываясь от одной еды и требуя другой; к одежде, в которую меня одевали, относился, в основном, совершенно равнодушно; если просил купить игрушку или ещё что-нибудь, а мне отвечали, что этого сделать нельзя, сразу замолкал. Мне старались, по возможности, ни в чём не отказывать, — в тех пределах, какие были возможны для семьи, живущей на две обычных советских рабочих зарплаты и временами вынужденной занимать до получки то три рубля, то пять, то десять. Но мне с самого раннего детства объяснили простой принцип, который заключался в следующем: если мы можем купить то, что ты хочешь, то ты это получишь и без капризов; но если не можем, то ты этого не получишь, и капризы не помогут. Я привык относиться так не только к покупкам, но и ко всему остальному, по принципу «Что можно — то можно, что нельзя — то нельзя». Полагаю, это предотвратило многие проблемы.
Жадным я тоже не был. Если кто-нибудь из друзей просил, чтобы я подарил ему одну из своих игрушек, я дарил её. Родители иногда даже упрекали меня за это. А мне было непонятно: как можно не отдать человеку то, что он просит? Впрочем, объективности ради приходится отметить и тот факт, что среди ходивших ко мне детей попадались и воришки, — так что мои игрушки и разные мелочи разворовывались едва ли не более активно, чем раздаривались.
Ещё в моём характере сочетались две, казалось бы, трудно совместимые — а может быть, как раз очень совместимые — черты: крайняя чувствительность и сентиментальность, и крайняя вспыльчивость. Разжалобить меня было парой пустяков. Я рыдал, услышав по радио песню, в которой по сюжету кто-то погибал, или посмотрев такой фильм; а увидев на улице птицу с подбитым крылом или хромую собаку, мог потом проливать слёзы несколько дней, вспоминая это ужасное зрелище. С другой стороны, если я видел, что кто-то не прав, и если он при этом ещё и спорил со мной, я мгновенно вскипал, начинал дерзить, мог наговорить грубостей. Друга, который вёл себя безобразно (по моим понятиям), я мог всячески изругать, а по завершении инвективы просто выгнать вон. Проделывал сие неоднократно. И если уж выгонял кого-то, то обычно больше уже никогда не принимал его у себя.
С обеими этими чертами своего характера я боролся. Что касается сентиментальности, то тут требовалось только научиться подавлять её внешние проявления; этому я научился уже годам к восьми или девяти. Хоть иногда и не мог скрыть навернувшихся на глаза слёз, но рыдать по любому поводу перестал. Это был первый на моей памяти случай, когда я сам осознал, что должен что-то в себе изменить, и добился этого чисто волевыми усилиями.
Обуздать вспыльчивость оказалось не в пример труднее. Это наша семейная черта; она свойственна и моим родителям тоже. Поэтому я пришёл к мысли о необходимости борьбы с нею гораздо позже, и давалась мне эта борьба очень нелегко. Ведь даже просто сдержаться, когда готов вспыхнуть, — уже серьёзное испытание; а уж изменить себя изнутри, выкорчевать вспыльчивость из своего характера, — наверное, одна из самых сложных задач на свете. Ну а мой темперамент в юности напоминал темперамент героев некоторых фильмов, каких-нибудь горячих испанских или мексиканских донов, способных, обменявшись парой фраз с не понравившимся человеком, схватиться за оружие. Думаю, если бы я не был прикован к инвалидной коляске, то нажил бы себе тогда на этой почве немало проблем. Хоть после вспышек гнева всегда становилось неприятно и неловко, — так ведь это состояние наступало уже после; а когда вспышка происходит, она плохо поддаётся контролю, и во время её за себя практически не отвечаешь.
В общем, если вспомнить перечень так называемых «семи смертных грехов», то можно сказать, что грехом, свойственным мне, был гнев. Победить его я смог только тогда, когда появилось Учение. Да и то далеко не сразу.
И всё же со временем гневу пришлось уйти. Вместо него выработались критически-сатирическое отношение к отрицательным явлениям жизни и хороший, без ненависти, боевой азарт, без которого трудно бороться с ними, — нечто вроде спортивной злости, только в приложении не к спортивным соревнованиям, а к жизненной борьбе.
Ещё за свою жизнь я научился терпеть и ждать. Говоря о терпении, имею в виду не то терпение, когда безропотно сносишь несправедливость и позволяешь над собой издеваться, а то, когда в трудной ситуации не хнычешь и не пытаешься выйти из неё любым способом, даже предосудительным, а сжимаешь зубы и терпеливо переносишь тяготы, посылаемые жизнью. С терпением связано и умение ждать. Для человека в моём положении два эти качества жизненно важны. Без них можно легко сломаться, отчаяться, утратить себя.
И ещё я приобрёл сильнейшее стремление к независимости. Понять это легко: ведь я всю свою жизнь был (и пока остаюсь) физически зависимым от родителей, поскольку нуждался и нуждаюсь в постоянном уходе. Однако как же такое стремление выглядит на практике? Что тут можно поделать, что можно изменить? На самом деле, изменить можно очень многое. Пусть не столько физически, сколько психологически, — но ведь именно это и важно в первую очередь.
Когда детство кончилось и я начал лучше разбираться в жизни, мне открылся один печальный парадокс. А именно, тот факт, что даже близкие и любящие люди могут превратить твою жизнь в тюрьму. Особенно если во всём от них зависишь. И сделают они это отнюдь не по злобе, а как раз наоборот — из самых благих побуждений. Даже вполне здоровые физически люди, бывает, попадают под диктат старшего поколения; примеров того вокруг достаточно. Если же ты инвалид, практически всю жизнь просидевший в четырёх стенах, то окружающие, при всём своём хорошем отношении к тебе, могут и не считать, что ты достаточно хорошо разбираешься в жизни, способен иметь о многих её явлениях объективное мнение и сам определять, что для тебя лучше. Думаю, есть немало случаев, когда дело обстоит иначе; однако много и таких, как я описал.
Что до меня, то угнетения со стороны родителей я не чувствовал. Они решали за меня то, что решают за ребёнка все нормальные родители: когда ложиться спать, когда есть, какую одежду носить, что смотреть по телевизору и тому подобное. Однако когда я уже перестал быть ребёнком, а ничего ощутимо не изменилось, я понял, что рискую остаться на всю жизнь на детских правах. И начал бороться за право самоопределения. Родителям не понравилось, что я стараюсь выйти даже из-под такого, как им казалось, безобидного и доброжелательного контроля. Они были уверены, что ничего плохого в нём нет, и не могли понять, как важно для меня, и без того крайне ущемлённого в своих возможностях, получить максимум хотя бы той скромной свободы, которая возможна в моём положении. Для меня же это был вопрос психологического выживания, и стоял он так: либо я буду решать сам за себя то, что мне доступно, либо навсегда останусь вечным ребёнком, марионеткой (а марионетка, даже в любящих руках, — всё равно марионетка, а не человек), и никогда не буду иметь шанса стать что-то из себя представляющей личностью. Увы, объяснить это родителям никак не удавалось. Они продолжали считать, что никакой проблемы нет, что я раздуваю её на пустом месте, и не хотели уступать. Я тоже. Дело доходило до громких ссор. Причём конкретный повод для каждой из них был не существен. Конфликт разгорался не вокруг определённых событий, а вокруг принципиальных вопросов и наших характеров. В довершение ко всему, отец тогда как раз стал спиваться; он начал вести себя агрессивно по отношению ко мне и к маме, устраивать постоянные скандалы с оскорблениями и угрозами в наш адрес. Моя строптивость и принципиальное нежелание прогибаться под него воспринимались им с самой настоящей злобой. Это сильно осложняло мою борьбу. Мать, правда, тут была обычно на моей стороне, и это помогало мне в моём противостоянии с отцом. Но проблема самоопределения продолжала оставаться актуальной. Поэтому мне пришлось выработать целый ряд методов протеста, позволяющих мне настаивать на своём. Самым радикальным из них — и, в то же время, самым эффективным — стала голодовка.
Казалось бы, больших проблем могло и не быть: для них и оснований-то особых не имелось. Всё можно было решить гораздо проще, — всего лишь обсудив проблему и попытавшись преодолеть её общими силами. Но, к сожалению, в нашей семье не было принято решать проблемы «за круглым столом». Каждый был просто уверен, что прав именно он; а вспыльчивость, свойственная всем троим, никак не способствовала взаимопониманию. Поэтому мои отношения с родителями тогда очень сильно испортились. А отцовские пьяные скандалы осложняли всё ещё больше. Атмосфера в доме была мучительной, просто невыносимой.
Сам я в глазах родственников выглядел тогда не лучшим образом. Мои протесты, ссоры с родителями, неуступчивость в сочетании с остротой языка и умением обрубить чьи угодно попытки повлиять на меня, создали мне в глазах родни новый образ. Меня стали считать вредным упрямцем, ни во что не ставящим окружающих, и называли «колючим». Никому и в голову не пришло попытаться разобраться в причинах. Все, кто был в курсе происходящего в нашей семье, рассуждали так: «Всё у него в порядке: одет, накормлен, досмотрен. Чего ему ещё надо? Чего он выпендривается?». Всё это, бывало, высказывалось мне прямо в глаза. Я сначала ещё пытался что-то объяснять; когда же понял, что мои попытки бесполезны, стал просто отшивать поползновения читать мне нотации, тем самым подтверждая свою «колючесть». Поистине достойно удивления непонимание того простого факта, что недостаточно быть одетым, умытым и накормленным. Может быть, чисто физического ухода и достаточно для домашнего животного, — но не для человека. Человеку требуется внимание ещё и другого рода, понимание, уважение его прав. Мне же довелось столкнуться с совсем иным отношением. Это стало для меня печальным открытием. Когда меня, ещё ребёнка, ничто подобное не волновало, то проблем с этим и не было, и казалось, что всё замечательно. На поверку вышло не так.
Можно рассуждать и подробно анализировать, пытаясь понять причины такого взгляда моих родственников на ситуацию, истоки столь поверхностного и, я бы даже сказал, примитивного подхода к проблеме. Однако не стану делать этого здесь. Скажу лишь, что, по моему мнению, дело тут в предубеждении. Даже хорошее, доброжелательное отношение к человеку с ограниченными возможностями со стороны физически здоровых людей, порой сочетается с подсознательной их убеждённостью в том, что он, как неполноценный, не может рассчитывать на равное с ними отношение к себе, равные права и, главное, равные возможности. Сформулировать вывод, вытекающий из данного подхода, можно следующим образом: «За тобой ухаживают — и будь доволен, сиди и не рыпайся; не тебе хотеть в жизни чего-то большего». Опять же, в ряде случаев бывает и не так; но проблема существует, и многие инвалиды испытывают это на собственной шкуре. Или, вернее будет сказать, на собственной психике. Потому что это — подспудный (а иногда и откровенный) психологический прессинг. Общество, несмотря на законодательные акты, утверждающие равенство всех людей в правах, ещё не научилось равно относиться ко всем. Когда это проявляется, то, как минимум, имеет место непонимание (с которым я и столкнулся), а как максимум — откровенное определение инвалидов как «людей второго сорта», со всеми вытекающими последствиями.
Возвращаясь к теме, скажу, что мне удалось настоять на своём праве решать всё для себя самостоятельно. В финале борьбы я постепенно отвоевал в полное своё распоряжение отдельную комнату, меньшую из двух, которая с тех пор является для меня и спальней, и столовой, и рабочим кабинетом, и местом для встреч с учениками. А самое главное то, что как только я добился желаемого и родители свыклись с переменами, исчез повод для напряжения, связанные с этим конфликты прекратились, и обстановка несколько разрядилась. Я говорю «несколько», потому что проблема отцовского алкоголизма и связанных с ним скандалов никуда не исчезла. Она сделала меня, ещё задолго до Учения, ярым противником не только пьянства, но и спиртного вообще, в любом виде.
Из всех этих передряг я вынес в глазах окружающих имидж очень тяжёлого человека, — своенравного, по-плохому упрямого и злого на язык. Мне тогда было около двадцати лет. Те события теперь уже довольно основательно всеми забыты; но такой свой образ мне в дальнейшем приходилось подтверждать неоднократно, ибо различных проблем хватало и в дальнейшем, а выработанный мною жёсткий принципиальный подход к их решению мало кому оказывался по душе. Но я ясно осознал, что в моём положении и в том окружении, какое было у меня, можно действовать только так, если хочешь сохранить доступную самостоятельность и чего-то добиться в жизни.
Теперь возвращаюсь к тому моменту, на котором прервал свой рассказ, — то есть ко времени окончания школы.
Это событие, давно и с нетерпением ожидаемое, стало для меня настоящим праздником. Наступила свобода от занятий и нудного делания уроков; всё моё время было теперь в полном моём распоряжении. Первые несколько месяцев этой свободы воспринимались как долгожданный вечный отдых на курорте после многолетних изнурительных трудов. Я буквально купался в свободном времени, наслаждался самим фактом его наличия.
Однако скоро реальность внесла свои коррективы. Возникло сперва смутное, а затем и острое чувство неудовлетворённости. Причин тому было две.
Во-первых, мне впервые за много лет временами начало становиться скучно. Мои друзья тоже выросли, у них появились иные интересы и занятия, и они перестали навещать меня. Я остался один, — если не считать двух моих двоюродных братьев, которые были намного моложе меня и тогда часто бывали у нас (когда они подросли, я перестал видеть и их), да ещё одного парня, о котором дальше будет сказано подробнее. Ну а просиживать над книгами абсолютно всё своё время, с утра до вечера, читая и за едой, как я привык, было слишком даже для меня.
Во-вторых, появилось желание что-то делать, заняться чем-нибудь. Я спрашивал себя: «Ради чего я живу? Что могу сделать в жизни?». Ответов не находилось. От этого я начал чувствовать себя потерянным. Со временем ощущение потерянности и собственной бесполезности усиливалось всё больше, пока не сделалось мучительным.
Об этих моих переживаниях не знал никто. У нас в семье как-то не было принято делиться сокровенными чувствами. Поэтому я привык все свои проблемы, страхи, переживания, надежды держать в себе. Тем не менее, нашёлся ещё один человек, который одновременно со мной задумался о моём будущем. Это была бабушка. Несколько раз она пыталась убедить меня поступить учиться заочно, на юриста. Её воображению рисовались радужные картины: вот я учусь со всей той старательностью, какую проявил в школьные годы; вот получаю диплом и начинаю практиковать; вот ко мне на дом приходят за консультацией клиенты, я пользуюсь уважением и получаю хорошие деньги. Выглядела такая перспектива и в самом деле привлекательно. Однако я отнёсся к бабушкиной идее скептически. На мой взгляд, это ей только казалось, что всё может быть вот так хорошо, — тогда как на самом деле у юриста, находящегося в моём положении, практически нет перспектив не только сделать карьеру, но даже иметь более-менее стабильную практику. Навряд ли к нему пойдут люди. Поэтому я отклонил её предложение, сочтя, что такая учёба будет для меня бессмысленной тратой времени, которое, возможно, удастся посвятить чему-то более перспективному. Вот только чему?.. Это был тогда для меня вопрос вопросов.
Вообще, из всей родни только мать и бабушка, знавшие меня ближе и лучше всех, верили, что я могу чего-то добиться в жизни. Мать всегда готова была поддержать меня в любых начинаниях, а бабушка даже указывала на конкретный исторический пример. Она говорила: «Вон этот американский президент… как бишь его?.. сидя в инвалидной коляске государством управлял!». Имелся в виду Франклин Рузвельт. Эти слова произвели на меня определённое впечатление, — не решающее, но весьма благоприятное. Я увидел реальный пример того, что и находясь в таком положении можно плодотворно работать и много сделать.
Итак, идея с учёбой на юриста была отвергнута. Но проблема осталась, и нужно было искать пути её решения. Я долго размышлял и прикидывал. Всё упиралось в вопрос «Что мне по силам?». По здравом рассуждении я пришёл к выводу, что занятием, доступным мне и физически, и интеллектуально, к тому же ещё интересным и, возможно, даже небесприбыльным, может стать писательство. Уверенности ни в успехе, ни в своих способностях не было; но попытка не пытка. Я стал пробовать. Среди литературы, которую я тогда читал, преобладали научная фантастика и фэнтези. Именно в этих жанрах я и начал свои пробы пера.
До этого у меня изредка писалась всякая чепуха: частушки, пародии на популярные песни, несколько плохих стихотворений, несколько шуточных писем. Всё это было чистым баловством. А ещё в детстве, помню, пытался написать приключенческую повесть.
Теперь же я подошёл к делу исключительно серьёзно. Сделал наброски для нескольких коротких научно-фантастических рассказов, начал фантастический роман, затем ещё один, затем фэнтезийный. Результаты меня совершенно не удовлетворили. Не будучи уверенным в своём писательском таланте и не желая выглядеть в чьих-либо глазах бездарным бумагомарателем, я относился к своим творческим попыткам чрезвычайно взыскательно, и браковал всё, что писалось. Решив попробовать что-нибудь попроще (по крайней мере, казалось, что это будет проще), я попытался написать повесть ужасов, затем роман. Результат был тем же. В том, что я писал, мне не нравилось абсолютно всё: сюжеты, стиль, динамика повествования и даже словесная палитра. Поразмыслив над столь невдохновляющей картиной, я предположил, что либо просто не готов пока стать писателем, либо же мне не хватает таланта, — и если верно последнее, то нет смысла замахиваться на недостижимое. Однако совершенно определиться в том, верно ли первое предположение или второе, я не мог, и потому продолжал свои попытки писать, сочтя, что для окончательного вывода нужны гораздо более длительные упражнения.
Ну а тем временем я набрёл на новую возможную сферу приложения сил. Мне пришла в голову мысль заняться магией.
Как раз тогда мне исполнилось двадцать лет.
Интереснее всего то обстоятельство, что я всегда, с самого детства, был атеистом и сторонником сугубо научного взгляда на мир. Поэтому не верил ни в Бога, ни в нечистую силу, ни в магию, ни в загробную жизнь. И вот неожиданно для себя обнаружил, что уверен в существовании некоего иного мира, и в действенности магии как средства взаимодействия с ним. Теперь я понимаю, что это начинало пробуждаться знание, приобретённое мною в период пребывания во втором мире, между прошлой жизнью и нынешней. Примечательно также и то, что я тогда абсолютно не удивился внезапному изменению своих взглядов, и даже больше: подошёл к новым реалиям с практической точки зрения. Я подумал: «Что ж: если я не могу действовать физически, чего-то добиваясь в жизни, то буду действовать через магию». И хоть магия тоже требовала определённых физических манипуляций, а также аксессуаров, которые мне было неоткуда взять, я отчего-то был уверен, что прекрасно обойдусь без всего вышеупомянутого. Уверенность эта имела тот же исток, что и уверенность в существовании незримого мира и реальности магии.
Я начал разными путями собирать информацию, стал покупать литературу оккультной и магической тематики, — благо, как раз в то время (первая половина 90-х) в обществе наблюдался всплеск интереса к таким вещам, и подобных книг издавалось всё больше. Конечно, трудно было предполагать, что по ним и в самом деле можно чему-то научиться. Тем более, что в аннотациях иногда прямо указывалось, что приведённые в них магические рецепты и прочая информация содержат преднамеренные искажения, дабы успешное применение всего этого на практике несознательными или злонамеренными лицами не привело к плачевным последствиям. Однако для меня это было несущественно. Мне требовалось уяснить для себя только общую картину и общие принципы магических приёмов; для тех методов, какими намеревался пользоваться я, детали ритуалов значения не имели.
Основательно проштудировав доступный материал, я опробовал свои методы на практике. Не стану рассказывать, в чём была их суть; главное, что они работали. Знания, всплывавшие из глубин памяти (в чём я, правда, тогда не отдавал себе отчёта), с успехом заменили мне традиционный магический инструментарий.
Не знаю, к чему бы привели меня с течением времени мои магические упражнения. Надо думать, ни к чему хорошему. Именно это следует из оценки, позднее данной этим событиям моим Учителем. К счастью, я занялся магией тогда, когда до коренного перелома в моей жизни оставалось всего около полутора лет, и к его моменту ещё не натворил ничего ужасного. Хотя ничего такого я совершать не намеревался; но, похоже, так или иначе это могло бы произойти. Или, скорее, даже было неизбежно. Тут сыграла положительную роль и моя основательность. Ведь прежде чем попробовать что-то делать, я, по своему обыкновению, тщательно изучал материал, — на что ушла бо́льшая часть означенного срока; и пробовать начинал понемногу, не торопясь и не замахиваясь сразу на что-то значительное. Так что основательно увязнуть во всём этом я просто не успел.
Говоря о коренном переломе, я имею в виду начало откровения.
Это произошло весной 1994 года. В один из дней в моей голове раздался голос, который сказал, что мне предстоит стать основателем некоего учения. Моей реакцией было не то чтобы удивление, а, скорее, недоумение. Я просто не знал, как отнестись к столь странному случаю. Немного подумав, решил: померещилось. Тем более, что я тогда болел, — кашель, повышенная температура. У меня никогда не бывало галлюцинаций во время болезни; но как ещё можно было объяснить произошедшее?
Прошло несколько дней, и таинственный голос снова заговорил со мной. Потом опять. Потом это стало повторяться регулярно. Затем к голосу прибавился образ, который я видел внутренним зрением. Постепенно отрывочные обращения превратились в самые настоящие беседы. Я узнал, что со мной говорит Бог Мудрости, более всего известный как Гермес, и что он намерен передать мне учение, которое я потом должен буду открыть людям. Разумеется, я задал вопрос, который сразу стал для меня самым насущным: «Почему я?». Ответа не последовало.
Я говорю, что слышал голос, — но это не совсем так. На самом деле голоса как такового не было. В мою голову просто вкладывался смысл того, что говорил Учитель. Объяснить принцип такой формы коммуникации не берусь. Это похоже на то, как если бы сами слова, как набор фонем, не воспринимались ни слухом, ни сознанием, но их значения и смысл воспринимались так, словно сказанное было услышано и обработано мозгом. Не знаю, можно ли здесь применить термин «телепатия». Названия для этого явления я так и не подобрал. Да, признаться, особо и не искал его.
О Гермесе мне тогда было известно только то, что говорилось в древнегреческих мифах, пересказ которых, принадлежащий перу Н. Куна, я когда-то читал, и с которыми был более-менее знаком по другим книгам и телепередачам. В изданиях, посвящённых оккультизму, мне встречался текст «Изумрудной Скрижали» Гермеса Трисмегиста, которого я никак не связывал с греческим богом. О герметизме как оккультно-философской традиции я тогда понятия не имел, — кроме, разве что, нескольких упоминаний, встретившихся всё в тех же книгах. Уже потом я ознакомился с рядом текстов «Герметического корпуса», почитал различные материалы по теме и узнал о том огромном влиянии, которое герметическая традиция оказала на оккультизм, философию, религию. Всё это было гораздо позже, когда я начал целенаправленно изучать историю вопроса, стремясь получить как можно более полную картину происходящего.
А тогда, в первые месяцы откровения, я просто слушал, задавал вопросы и жадно впитывал то, что мне открывалось. Первая полученная мною информация касалась книг, по которым я знакомился с магией. Я перечитывал их снова, — но теперь чтение сопровождалось комментарием, который давал Учитель, поясняя мне, что там описано верно, а что неверно. Эти комментарии постепенно переросли в изложение картины мира. С упражнениями же в магии было покончено. Оказалось, что она есть занятие вредоносное, в большинстве случаев идущее против Природы и естественного порядка вещей.
Со временем беседы стали ежедневными. Эмере — так велел называть себя Учитель — рассказывал мне о Творце, о происхождении и устройстве Мироздания, о мире Духа и мире энергии, об эволюции и роли в ней осознающих, о предназначении человека, о посмертии, о Драконе, и ещё о многом, многом… До этого я не интересовался ни религией, ни философией, и был абсолютно несведущим в подобных вещах. А тут на меня обрушился такой поток совершенно новой информации, немыслимой для моего прежнего мировоззрения, что порой я просто с трудом успевал её усваивать. Бывало, я начинал «плыть»: кружилась голова, и окружающий мир казался странно нереальным. Тогда я просил Учителя о передышке, и беседы прекращались на несколько дней. Когда я приходил в себя и был готов продолжать, они возобновлялись.
К началу следующего, 1995 года я имел уже довольно чёткое представление об открывшейся мне новой картине мира. Конечно, оно было ещё слабо детализированным; несколько месяцев ученичества дали мне только понятие об основах, и до превращения в специалиста мне было ещё далеко. Что же до подробностей, деталей и нюансов, то скажу так: Учитель учит меня до сих пор (хотя беседы теперь не так часты и интенсивны, и происходят несколько по-другому), и до сих пор мне есть что узнавать и чему удивляться.
Параллельно с получением знаний происходили перемены во мне самом. Я постепенно превращался в совсем другого человека; и настал день, когда я ясно осознал, что прежний Виктор исчез навсегда. Пришедшему ему на смену новому мне в наследство от прежнего меня достались лишь биография, воспоминания о жизни до откровения, тело, внешность и имя, записанное в паспорте. Но изменился не только я. Изменился мир вокруг меня, и изменились люди. Всё стало другим, — потому что я теперь смотрел на всё другими глазами.
В те дни исчез прежний человек, и появился пророк.
Хотя именно это мне было труднее всего принять. Вдруг оказаться в такой роли — испытание, мягко говоря, не из лёгких. Когда я понял, что представляет из себя Учение и как оно важно для мира, на перемены в самосознании и необходимость привыкнуть к себе новому наложилось ощущение груза колоссальной ответственности. А главное, по-прежнему было непонятно — почему я? Почему? Я вовсе не считал себя каким-то исключительным. Так какова же причина того, что для получения откровения был избран обычный парень-инвалид, — не только не представляющий из себя ничего особенного в интеллектуальном или духовном смысле, но ещё и крайне ограниченный в своих возможностях? Этот вопрос ставил в тупик, приводил в растерянность, временами даже мучил. Но ответа на него Учитель не давал. Пришлось смириться с неизвестностью.
Не было у меня тогда чёткого представления и о том, как же я буду передавать Учение человечеству, какими путями и средствами. Непонятно было, где и как искать учеников. От мысли, что это будут уже не обычные друзья, а люди, для которых я должен стать авторитетом, чей статус подтверждён свыше, брала некоторая оторопь. Ещё было ясно, что рано или поздно возникнет необходимость изложить Учение письменно; однако уверенности в том, что я сумею сделать это должным образом, не имелось. Кратко говоря, было ясно, что нужно делать, но не было понятно, как это делать. И мне не оставалось ничего иного, как только надеяться, что со временем я дозрею до понимания, и с помощью Учителя разберусь во всех этих проблемах.
В начале 1995 года приключилось ещё одно удивительное дело: у меня вдруг начали писаться стихи. Удивительным оно было потому, что стихов я никогда не любил и не читал. Они вгоняли меня в скуку, поскольку красоты стихотворного слова я не понимал совершенно. Несколько стихотворных безделок, по большей части пародийных, написанных мною в юности, в счёт не шли. И вот внезапно начали рождаться настоящие стихи. Они появлялись словно бы самостоятельно. Я чувствовал, как они просятся наружу; оставалось только записывать. Качество их — уже другой вопрос. Может, они были нехороши, а может, вполне сносны. Не мне судить. Я и чужим-то стихам никогда не пытался дать оценку, претендующую на объективность; а уж своим — тем паче. Мне они тогда казались неплохими. Позже, когда прошло много времени, когда я более-менее познакомился с мировым поэтическим наследием и когда число написанных мною самим стихотворений подошло к полутысяче, я стал гораздо более ясно видеть недостатки тех, ранних опытов, и начал судить их значительно строже. Это привело к тому, что в 2015 году я основательно «почистил» свой поэтический сборник, и из 448 входивших в него стихотворений осталось 266. Большинство уничтоженных стихотворений относилось к первым пяти годам моего стихотворчества (1995-1999). К слову говоря, стихи, написанные в последующие годы, я также не берусь оценить объективно, — хотя мне кажется, что по сравнению с более ранними они стали лучше.
Они и сейчас пишутся так же, как в те ранние годы, — словно сами по себе. Наверное, именно это и есть вдохновение. Не знаю… Просто мои чувства хотят изливаться именно в стихах, — и так оно и происходит.
Ну а поскольку печальных переживаний в моей жизни больше, чем радостных, то и поэзия моя по большей части печальна и мрачна. Тогда, в первые годы стихотворчества, я как раз начинал всё яснее видеть всю неустроенность нашего мира, понимать, сколько в нём зла и бед, осознавать, как необходимы перемены. Поэтому ранние мои стихи были полны возмущения и даже гнева против такого мира и царящего в нём зла. Со временем это прошло. Стихи, написанные в последние годы, тоже зачастую мрачны, — но мрачны по-другому. В них отражено моё возмущение уже не миром, а теми людьми, которые делают его таким; и ещё в них моя собственная боль. Они не все таковы, конечно. Но возмущение и боль всё равно остаются как бы их лейтмотивом, проходящей через них связующей нитью.
Сомневаюсь, что они могли бы доставить читателю удовольствие. И уж подавно сомневаюсь в их художественных качествах и культурной ценности. Поэтому никогда и не предпринимал попыток издать их.
Однако же не столь важно, хороши они или плохи. Важно, что когда я начал сам писать стихи, тогда заинтересовался и поэзией как таковой. Тогда я стал читать чужие стихи — и влюбился в поэзию сразу и навсегда. К счастью, своё знакомство с ней я начал не с писанины по большей части бездарных (даже на неискушённый взгляд) современных стихоплётов, а с поэтов эпохи Возрождения и Нового времени и с китайских средневековых поэтов. Затем — античность (Греция, Рим, и т.д.), арабские и персидские поэты, Япония, Россия XVIII-XIX веков. Рискую надеяться, что столь удачное начало привило мне хороший вкус, — если не к своим стихам, то к чужим. С тех пор прочитано и перечитано очень много; но поэтов XX века я и сейчас практически не читаю. Не хочу сказать, что все они плохи; среди них встречаются таланты и гении. Но почему-то современная поэзия не ложится мне на душу так, как поэзия былых веков.
Возвращаясь к делам Учения, скажу, что 1995 год был в этом плане ознаменован очень важным событием: именно тогда у меня появился первый ученик.
Его звали Андрей, и он был почти шестью годами моложе меня. Мы жили в одном подъезде, и к тому времени были знакомы уже более десяти лет. Отношения наши складывались весьма непросто. В самом начале я просто иногда помогал ему делать уроки; об этом попросила меня его мать, которая была подругой моей матери. Потом мы несколько лет не общались. Потом он опять стал приходить ко мне (не помню уж, зачем), и завязалась дружба. Только дружба эта была, если можно так выразиться, неблагополучной. Андрей был очень умным и деловитым парнем, но обладал дурным характером и целым набором отрицательных качеств, — таких, как лживость, жадность, высокомерие, и ещё некоторые другие. Ну а я всегда был принципиален в таких вопросах; к тому же, ещё и вспыльчив, как уже рассказывал выше. Поэтому итог такой дружбы несложно было предвидеть. Некоторое время я терпел его, — частью из уважения к его матери, — а потом всё же прогнал. Однако я ошибался, полагая, что на том всё и закончится. Несколько месяцев спустя бывший друг зашёл ко мне по какому-то пустяковому делу; потом зашёл снова… Так он опять стал посещать меня регулярно, и дружба продолжилась. Я удивлялся сам себе. Обычно если уж я прогонял кого-то, то это было бесповоротно; а тут… Впрочем, этот этап нашей дружбы также не длился долго: скоро Андрей настолько допёк меня, что я прогнал его вторично. На сей раз мы не общались несколько лет. Потом он снова зашёл по пустяковому поводу, — и всё повторилось по уже известному сценарию. И я вновь удивлялся себе, — почему я его принимаю и терплю? Также было непонятно, что его сюда тянуло. Ведь если я относился к нему плохо, то и он платил мне тем же. Поистине, это была странная, непонятная нам обоим дружба.
После того, как он вернулся после второго разрыва, будучи уже не ребёнком, но подростком, и став несколько серьёзнее и рассудительнее, нам удалось найти общий язык. Отношения оставались довольно натянутыми; но конфликтов теперь удавалось избегать. Как раз в то время у меня окончательно сошли на нет отношения с последними из прежних друзей. И пришёл день, когда я осознал поразительный факт: все, с кем я дружил и к кому хорошо относился, отдалились и исчезли с горизонта моей жизни, — а рядом остался тот, к кому я относился хуже, чем к кому-либо другому.
Я почти с самого начала откровения рассказывал ему кое-что из того, что узнавал, — хотя серьёзного интереса к данной теме у него не видел. Но внезапно в Андрее произошла резкая перемена. Это было летом 1994 года, когда ему исполнилось 16 лет. Уезжая на отдых в деревню, он прихватил с собой взятую в библиотеке по ошибке книгу по философии. И вернулся другим человеком. Перед ним словно бы открылось совершенно новое измерение жизни. С того момента в сферу его интересов прочно вошли философия и религия. Теперь и наши беседы об Учении стали другими. Его юношеское легкомыслие уходило на глазах, уступая место серьёзному, вдумчивому интересу, стремлению анализировать и желанию учиться. Через год я уже с полным правом мог назвать Андрея своим учеником. К тому времени он основательно вник в Учение и избрал его в качестве пути, которому намеревался следовать. Правда, вступить в Учение ещё не мог: в 1995 ему исполнилось только семнадцать, и до двадцати одного года (возраста совершеннолетия по понятиям Учения) было ещё далеко.
Да и вступать, собственно говоря, было пока некуда. Учение тогда ещё не было основано.
Свершилось это в следующем году. К его началу я знал уже достаточно для того, чтобы преподавать целостную, логически и морально обоснованную мировоззренческую систему. Кроме этого, я к тому времени более-менее свыкся со своим статусом пророка и с той ответственностью, которую он на меня налагал. Найдя, что я готов к исполнению своих обязанностей и психологически, и интеллектуально, и морально, Эмере сказал мне, что пришло время основать Учение, положить начало его фактическому существованию в мире людей.
1 марта 1996 года я объявил Учение основанным и, согласно указанию Учителя, дал ему название Учение Единого Храма.
С того дня идёт отсчёт времени существования Учения.
Далее всё в течение нескольких месяцев шло по-прежнему: я учился сам, учил Андрея. Начинал подумывать о том, что надо бы как-то пробовать излагать Учение в письменном виде. Однако серьёзных попыток к этому не предпринимал. Во-первых, не чувствовал себя готовым к выполнению столь важной задачи; во-вторых, информация постоянно прибавлялась, мои знания расширялись и дополнялись буквально каждый день, — и если бы я попытался тогда систематизировано изложить их в письменном виде, мои записи устаревали бы с такой же скоростью.
В середине сентября произошло событие, надолго снявшее этот вопрос. В один из дней Учитель стал говорить ко мне, предварительно велев записывать его слова. Так появился «Эвангелон» — первый текст пандэкта.
Забегая немного вперёд, скажу, что тогда этот текст не носил никакого названия. Ни Эмере, ни другие боги не давали названий своим митэвмам. Было только одно исключение: Учитель сам дал название митэвме «Эосфор». И поскольку слово это было взято из древнегреческого языка, я принял решение дать греческие названия всем безымянным митэвмам. Подбором названий мы занимались с Андреем вместе; ему пришлось ради этого совершить экскурс в древнегреческий язык, работая с учебными материалами и словарями. Позже мы по тому же принципу поименовали митэвмы, написанные мною, а также сами книги и пандэкт, и разработали терминологию для книг и их частей. Митэвмы же, продиктованные людьми, носят названия, данные ими самими.
Начало надиктовок стало для меня не просто важным моментом: оно вывело меня на новый уровень понимания того, чем является Учение для мира людей. Потому что одно дело — устно излагать то, что знаешь, и совсем другое — держать в руках тексты, надиктованные богами и людьми, в давние времена принадлежавшими к Учению. Это не просто труд одного человека, совершающийся здесь и сейчас; это совместный труд многих, людей и не людей, — труд, связующий пространства, времена, миры и существа, делающие одно великое дело. Перед моим внутренним взором стал разворачиваться новый масштаб происходящего, — масштаб, выходящий за пределы мира людей и моего века. До того я уже имел о нём некоторое теоретическое представление; теперь же увидел, прикоснулся, ощутил, осознал. Это помогло мне увидеть в новом свете и самого себя, — уже во второй раз. Но, как оказалось, не в последний.
К тому моменту откровение продолжалось менее трёх лет, а само Учение существовало лишь чуть более полугода. Всё ещё только начиналось.
В заключение дам небольшую зарисовку из нашей жизни в те годы.
Конец восьмидесятых и начало девяностых стали довольно сложным периодом для нашей семьи. Последние годы существования СССР оказались не только суматошными в политическом и социальном смысле, но и скудными для многих в смысле финансовом. Не миновало это и нас. И хотя нельзя сказать, что в описываемое время мы сильно бедствовали, держаться на плаву стало ощутимо труднее, чем прежде.
После распада Советского Союза (я на референдуме голосовал за его распад, чем несказанно удивил людей, принесших мне на дом урну для голосования и подсмотревших, какой пункт я отмечаю в бюллетене) положение стало довольно быстро улучшаться. В 1992-1993 годах наши дела поправились, и даже сделались благополучнее по сравнению, скажем, с серединой восьмидесятых. Мы хорошо питались, покупали всё необходимое, и даже я со своей пенсии мог время от времени позволять себе довольно дорогие сигареты.
Думаю, о том, как я бросил курить, можно рассказать чуть подробнее, поскольку произошло это не вполне обычным образом.
Курить я начал в восемнадцать лет. Мне всегда этого очень хотелось, — но я ждал, когда стану совсем совершеннолетним, чтобы никто не мог мне ничего возразить. После своего восемнадцатилетия я настоял на том, чтобы мать покупала для меня сигареты, как она тогда покупала их для отца. Выкуривал 10-12 штук в день; и каждая сигарета была для меня настоящим наслаждением.
Продолжалось это чуть более трёх лет. Всё это время мать и бабушка уговаривали меня бросить. Они понимали, насколько опасно курение при моём состоянии здоровья и крайне малоподвижном образе жизни. Понимал это и я; но уж очень приятно было курить… И вот однажды им удалось уговорить меня сделать перерыв в курении. Они говорили «Не хочешь бросать, так хотя бы дай себе передышку!». Я подумал, что если уж соглашаться на передышку, то она должна быть значительной. И обещал не курить год.
Каким трудным стал он для меня! Казалось бы, курил я не так уж долго и не так уж много; тем не менее, сигарет мне не хватало мучительно. О чём бы я ни думал, мысли всё время норовили вернуться к ним. По ночам снилось, что я курю; просыпаясь, я чувствовал себя обманутым и ограбленным, и мучился ещё больше. Так и прошёл год. К концу его мне полегчало; к тому же, придавала сил мысль, что осталось уже немного, и что скоро я, наконец-то, закурю. Своего часа ожидала купленная заранее пачка хороших сигарет.
Когда пришёл вожделенный день, я, полный приятного предвкушения, распечатал её, взял в зубы сигарету, достал спичку и занёс руку, намереваясь чиркнуть ею о коробок… И вдруг подумал: «Зачем я это делаю? Ведь рано или поздно всё равно надо будет бросать курить. И тогда мне придётся снова пройти через все те мучения, которые я испытал не так давно. Так стоит ли опять начинать?». Пару минут, раздумывая и борясь с искушением, я так и просидел с сигаретой во рту и занесённой спичкой в руке. Потом вложил её в коробок, вложил сигарету в пачку, позвал отца и отдал всё это ему.
Больше я не курил никогда; а теперь не люблю даже сигаретного дыма. Хотя, как ни странно, мне до сих пор иногда снится, что я курю. Только сейчас я уже сам этому удивляюсь во сне.
Однако же, возвращаясь к зарисовке.
Во времена моего детства и ранней юности мы жили скромно, но не так уж плохо. Обеспеченной семьёй мы не были никогда; жили как большинство других, — что называется, от получки до получки. И хотя, бывало, приходилось одолжать у родственников и знакомых деньги, всё же можно сказать, что финансовое положение семьи было стабильным. По крайней мере, на простенькую одежду и обувь, на еду и на книги хватало. Проблемное время распада СССР пошатнуло эту непритязательную стабильность, — но не критично. Ну а после 1991 года, как и было сказано, ситуация начала выправляться, а затем и улучшилась. Роскошествовать мы по-прежнему не могли, — однако были в состоянии купить почти всё из продуктов, имевшихся тогда в магазинах. Очевидным это становилось во время наших шумных застолий.
Надо сказать, что, сколько я себя помню, все праздники принято было отмечать у нас дома, — и не только Новый Год, иные красные даты календаря или наши дни рождения, но и дни рождения наших родственников. Мои родители — гостеприимные люди; на каждый праздник мать накрывала обильный стол, и к нам собиралась родня семьями, приходили знакомые и друзья. Все ели, пили, пели песни, и расходились только поздно вечером. Те, кто был уже не в состоянии куда-то идти, оставались ночевать.
К середине девяностых ситуация опять стала меняться, — и на этот раз не в лучшую для нас сторону. С продуктами становилось всё труднее, цены росли, а доходы наши резко сократились, поскольку мать потеряла работу. Однажды настал момент, когда прежние, привычные всем застолья сделались невозможны. После того как, собравшись у нас в очередной раз, родственники обнаружили гораздо более скудный стол, чем обычно, а в следующий свой приход увидели на нём только варёную картошку, сало, квашеную капусту, один сорт колбасы, сыр, хлеб и всего одну бутылку водки, они охладели к общению с нами, и приходить практически перестали. Но это было даже хорошо, — потому что при стремлении моих родителей всех принимать как можно лучше и при отсутствии средств на угощение такие визиты ни к чему хорошему привести не могли. Что и было вскорости доказано на горьком опыте.
Приходилось туго. Однако самое трудное было ещё впереди. Скоро с деньгами стало настолько плохо, что их не хватало уже ни на что. Несколько следующих лет оказались для нас временем самого настоящего бедствования. Одежду и обувь мы покупать больше не могли; чинили и донашивали старую. О мясе как таковом пришлось практически забыть; только изредка покупались так называемые «суповые наборы», состоявшие из практически голых костей. Курицу мы ели только на Новый Год. Супы и борщи заправлялись растительным маслом или, в лучшем случае, какими-то обрезками шкурок от сала. При этом нас ещё угораздило оказаться в долгах, с которыми никак не удавалось рассчитаться, и которые начались как раз с заёма у знакомых ощутимой суммы для того, чтобы хорошо принять внезапно нагрянувших в гости (вероятно, желая тем самым сделать нам приятный сюрприз) родственников. Этот долг пробил в семейном бюджете, рассчитывавшемся в те времена с тщательность до рубля, катастрофическую дыру. Залатать её при наших тогдашних доходах было невообразимо трудно. Деньги отдавались, потом одалживались снова, — потому что надо было на что-то жить; по ходу дела долг не только не уменьшался, но даже увеличивался месяц от месяца. Дна финансовой пропасти мы достигли тогда, когда суп стал вариться уже из одной крупы и заправляться голой морковью (ни на мясо, ни на жиры, ни на картофель или вермишель, ни даже на лук денег не было), и когда нам однажды в течение примерно недели пришлось есть только один чёрный хлеб, макая его в присоленное подсолнечное масло и запивая несладким чаем из трав, которые мать сама же и собирала (ни обычного чая, ни сахара купить тоже было не на что).
Это был уже самый край, — и трудно сказать, что могло произойти далее. Но мы удержались на этом краю. Отказывая себе буквально во всём, практически голодая, всё же рассчитались с долгами, и дальше стало легче. А потом мать нашла новую работу, и семейный финансовый кризис закончился где-то на рубеже 1997-1998 годов.
Голодные годы в аккурат совпали со временем, когда началось откровение, было основано Учение и стали записываться тексты. На всё это наложились начавшиеся чуть раньше проблемы с сердцем. Оно у меня побаливало с детства. Но в тот период к боли прибавилась сильнейшая тахикардия, и дело дошло до трёх серьёзных приступов. Два первых я, почти теряя сознание, просто молча перетерпел; на третий раз пришлось вызвать «скорую». Не знаю, — может быть, в числе причин такого ухудшения здоровья было и курение. К счастью, приступы больше не повторялись, а курить я вскоре бросил. Однако меня ещё долго преследовал навязчивый страх перед новыми приступами, перешедший затем в боязнь умереть во сне, — которую я, впрочем, тщательно скрывал от окружающих. Было очень тяжело. Рассказывать здесь об этом подробно не буду; скажу лишь, что справиться со своим страхом я сумел только спустя год с лишним после начала откровения.
В общем, середина девяностых оказалась для меня труднейшим, но и счастливым временем. Появилось Учение, — и это стало, безусловно, центральным событием моей биографии. И пусть не во сне, но, всё же, в некотором смысле я тогда умер. Произошла психологическая смерть прежней личности и рождение новой. На смену Виктору пришёл Атархат. Хотя это имя он получил несколько позднее, родился он именно тогда.