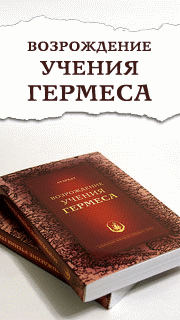Прошлая жизнь и посмертие
Начало моему пути в Учении было положено давно. Задолго до того, как я услышал первые слова откровения. И даже задолго до моего нынешнего рождения. Он начался примерно 2500 лет назад, в Индии. В той жизни я был кшатрием из хорошей семьи и носил имя Ананда.
Однажды Ананда — будем пока называть его так — услышал голос. Это был голос человека по имени Шер-Андер, задолго до того, в одной из своих прошлых жизней, принадлежавшего к Учению. Находясь во втором мире в ожидании очередного рождения и желая поделиться своими знаниями, он искал кого-нибудь из живущих во плоти, кто мог бы услышать его. Таким человеком оказался Ананда. Услышав в своей голове голос, он подумал сначала, что к нему обращается кто-то из богов. Удалившись на несколько дней в лес, он постарался открыть своё сознание, чтобы слышать голос яснее. Скоро он уже знал, кто говорит с ним, и теперь регулярно удалялся в лес, чтобы без помех внимать наставлениям своего незримого Учителя. Шло время, и для него всё менялось. Перед ним открывался новый мир, абсолютно не похожий на тот, который он знал с детства. Постепенно начал меняться и он сам. Иными становились его взгляды, принципы, — а вместе с тем и образ жизни, поступки. Настал момент, когда это стало очевидно для окружающих. Родня начала протестовать против его неподобающего, как ей казалось, поведения; родичи — да и не только они — пытались призвать его к порядку. Среди тех, кого особенно беспокоили перемены, происходившие с Анандой, был его двоюродный брат. Он говорил Ананде: «Не болен ли ты, или не поразила ли тебя палица которого-нибудь из демонов? Пойдём: я провожу тебя к человеку святой жизни; может быть, он избавит тебя от напасти» (Сэбаст, 17-18). В ответ тот повёл его с собой в лес, на то место, где привык внимать голосу Учителя. В лесу брат подумал, что Ананда хочет убить его, и вынул меч, готовясь защищаться. Но Ананда успокоил его и посвятил в свою тайну. Хотя и не сразу, но брат поверил. Поверив же, попросил возможности учиться и для себя. Вместе с тем он предложил свою поддержку в противостоянии общественному осуждению, — ведь легче противостоять давлению вдвоём, чем в одиночку. Ананда согласился.
Некоторое время он продолжал учиться и пересказывать брату то, что узнавал сам. Однако вскоре его стали посещать мысли о том, как использовать полученные знания для собственного возвышения. Поддавшись искушению, он начал вести двойную игру: продолжал учиться, но в то же время внешне отказался от своих принципов, делая вид, что раскаялся и возвратился к прежней вере и прежним обычаям. Окружающих это обрадовало. Учитель же стал пытаться вразумить его, указывая на недопустимость подобного и предостерегая от гордыни и лицемерия. Но Ананда уже не был в силах повернуть назад; и когда он понял, что его замыслы несовместимы с ученичеством, он перестал слушать голос Учителя. Брату же, по-прежнему желавшему приобщаться к знаниям, объявил, что с ученичеством покончено.
Прошло время, и Ананде удалось многого достигнуть и возвыситься над своим прежним положением. Но вместе с тем он нажил и врагов. Как-то раз, будучи уже пожилым человеком, он отправился верхом, один, без сопровождения слуг, в недалёкое селение. По пути его ждала засада, и он получил стрелу в бок. Упав с коня, он пролежал несколько часов; затем его нашли крестьяне и доставили в его дом. Ананда умирал долго и мучительно, находясь при этом в полном сознании, думая о том, какую ошибку совершил, сойдя с пути, ужасаясь содеянному и раскаиваясь.
…Я испытываю странные ощущения, вспоминая те события и себя в образе индийца Ананды. Кажется, что это воспоминания о жизни другого человека; но ведь тем другим был я. Несколько похоже на воспоминания из юности. Ты вспоминаешь, что ты думал, чувствовал и делал, когда тебе было шестнадцать лет; и чувство такое, словно это был другой человек, другая личность, — настолько он не похож на тебя нынешнего. А если вспомнить себя в семь лет и в тридцать лет, то увидишь ещё двоих отличных от тебя людей. Однако всё это — ты. Ты являешься совокупностью личностей, сменявших друг друга на протяжении твоей жизни. Нынешний ты — последняя версия себя самого, как текущий результат наложения друг на друга прежних версий. Примерно так же вспоминается прошлая жизнь. И себя начинаешь воспринимать как трансформированную личность того, прежнего человека. Тем более, что так оно и есть.
Необычные переживания испытываешь, вспоминая то, чего не делал в нынешней жизни, но делал в прошлой. Например, я никогда не скакал на лошади. Но помню ощущение скачки. Я никогда не убивал человека. Но помню, как убивал в прошлой жизни. Я этого не делал, — но я это делал, и знаю, как оружие врубается в живую плоть, и помню ощущение рукояти меча и топора в ладони, и что ощущает рука в момент удара. Очень странно чувствуешь себя, когда знаешь, что никогда не отнимал у человека жизнь, и твоя совесть в этом смысле чиста, — но в то же время помнишь и знаешь, что делал это. Ты не виноват — но ты виноват. А главное, что и то, и другое — правда. Это касается и отрицательных, и положительных переживаний. Ты радуешься и огорчаешься тому, чего в твоей нынешней жизни не было, — но радуешься и огорчаешься так, словно оно было. Подобная двойственность восприятия не только позволяет увидеть многие вещи в необычном ракурсе, но и дарит очень своеобразный опыт. Ты не был в рукопашной схватке — но знаешь, что это такое. Не чувствовал, как твоё тело пробивает стрела, — но знаешь эти ощущения. Не лежал два дня в агонии, чувствуя, как жизнь уходит из тебя, — но знаешь, каково это. И моментов подобного опыта немало. Твоя жизнь как будто стала более вместительной и вобрала в себя больше опыта, чем в ней есть, — словно сосуд, в который удивительным образом вошло содержимого вдвое больше, чем он может вместить.
Кроме всего прочего, это повлияло на моё восприятие родины. Я считаю себя гражданином мира, и мне чужд узкогосударственный или национальный патриотизм. К любой нации и любому государству отношусь как к своим. Но есть страна, по отношению к которой испытываю особые чувства. И это не Беларусь, где я родился и живу. Своей родиной я ощущаю Индию. То, что я чувствую по отношению к ней, наверное, можно назвать ностальгией. Я скучаю по ней. Меня влечёт туда; я представляюсь себе скитальцем, давным-давно покинувшим родные края, но мечтающим вернуться. Люблю природу Индии, её культуру, её людей. Там — моё начало, там истоки меня теперешнего. Во мне слились индиец Ананда и белорус Виктор. У каждого из них своя родина. Но человека по имени Атархат, появившегося в результате их слияния, влечёт в Индию, как будто домой из долгих странствий.
Однажды это вылилось вот в такие строки, вошедшие в поэму «Случайное письмо»:
Мне эта боль уже знакома;
Она со мной, за шагом шаг.
Вот я сейчас, как будто, дома, —
Но ясно чувствую: чужак.
Я сердцем там, где в солнце утра
Сверкают воды Брахмапутры;
Где быстрый Инд и Ганг святой,
Как два копья, пронзают море;
Где Гималаи с небом спорят
Бессмертием и высотой.Там звёзды сказочные светят;
Лесов не сыщешь зеленей;
И нет на всём огромном свете
Прекрасней женщин и нежней.
Там меж людей блуждают боги.
Там вечной Мудрости чертоги
И тайники великих сил.
…Я жил под солнцем этим щедрым,
Ел хлеб, дышал пьянящим ветром,
Страдал, сражался и любил.Пускай давно всё это было;
Мне двадцать пять веков — не срок.
Меня всегда влекло, манило,
Тянуло, звало на восток.
Сначала мне, признаюсь честно,
Была причина неизвестна.
Дивился, недоумевал…
Но память двери распахнула —
И словно пламя полыхнуло
В груди… И я навек пропал.Так сердце в Индию стремится, —
Кричит и рвётся из груди.
Ему бы обернуться птицей, —
И я б тогда сказал: «Лети!
Скорей! Скорей! Без промедленья!
Не трать бесценные мгновенья!
Лети туда! Лети домой!».
Оно б исчезло в дымке зыбкой,
А я б вослед глядел с улыбкой,
Спеленатый предсмертной тьмой.
Умерев, Ананда — хотя, наверное, теперь уже я — прошёл необычное посмертие. Обычно тотчас после смерти человек оказывается в личном аду, — временном мучительном состоянии, заканчивающемся по истечении определённого срока, который у каждого свой. Некоторые попадают в иллюзию, пленниками которой остаются порой многие годы. Некоторые впадают в состояние, подобное коме, без мыслей и ощущений, которое также может длиться очень долго. После иллюзии или «комы» всё равно неизбежен личный ад. Я же оказался в Бездне, заменившей мне его.
Объяснить, что такое Бездна, не так-то просто. Можно определить её как область максимально разреженной энергии, — нечто вроде энергетического вакуума (хотя не совсем вакуума) в энергетической Вселенной. Не ошибусь, если скажу, что Бездна — самое страшное место во втором мире. Энергетические существа, имеющие неосторожность войти в её пределы, испытывают мучения, которые можно сравнить с сильнейшей болью и удушьем; Бездна буквально высасывает и убивает их, забирая их энергию. Хотя есть и те, кто не подвержен этому. Среди них — боги (высшие элементалы), включая Дракона, и осознающие (разумные существа), поскольку их энергетические тела не могут быть уничтожены. Богам, по большому счёту, нечего делать в Бездне; лишь для Дракона она является чем-то вроде логова, откуда он и раскидывает по Вселенной сети своего влияния. Осознающие же и вовсе не могут попасть туда, — во всяком случае, по собственному желанию. Тем более, что если гибель им и не грозит, то мучения, причиняемые Бездной, остаются. Мне довелось убедиться в этом на собственном опыте.
Кроме меня, в Бездне не был никто из людей. Не был и не будет. Я же попал туда потому, что моё отступничество оказалось беспрецедентным. Конечно, многие сходят с избранного духовного пути. Однако это означает лишь то, что выбор был нетвёрд, и избранный путь так и не стал для отступника настоящим путём. Проще говоря, если ты оставил свой путь, значит, этот путь по-настоящему и не был твоим. Но можно достичь настолько глубокой степени осознания Истины и своего духовного пути, что ты сливаешься с ним в одно неразделимое целое, и отступничество становится невозможным. Ананда достиг такого осознания и слияния с путём, указанным Шер-Андером. Но сошёл с него, совершил отступничество. То есть, фактически, произошло невозможное. Ничего подобного не бывало до того и не повторится в будущем. Почему же это произошло тогда?
Причина была в том, что назрела такая необходимость. К тому времени человечество уже в течении многих тысячелетий не могло выбраться из лабиринта своих заблуждений. Оно получило, ни много, ни мало, 26 откровений, предназначенных для того, чтобы помочь ему выйти на верный путь, и прежними пророками и Учителями было очень много сделано для этого, — но окончательно переломить ситуацию так и не удалось. И было уже понятно, — понятно для Природы как совокупности действующих в Мироздании принципов и законов, — что в жизни человечества наступает критический момент. Момент, когда оно либо повернёт на путь подлинного познания, либо придёт к медленному угасанию или самоуничтожению. Требовалось последнее откровение, — особенное, предназначенное не для ограниченного круга посвящённых, как предыдущие откровения, а для всего человечества. И чтобы принять такое откровение, требовался особенный пророк. Поэтому сама Природа устроила так, что один из осознавших Истину совершил небывалое отступничество и, как следствие, оказался в Бездне. Что было невозможно для человека как такового, то оказалось возможно для Природы, в видах необходимости для эволюции человечества. Бездна же дала мне уникальный опыт, которого не было у прежних пророков.
Можно сказать, что в той ситуации я послужил инструментом эволюции. Природе был необходим тот, кто пройдёт через Бездну, — и она подтолкнула меня к отступничеству, сделав так, что некие процессы и реакции во мне сработали не так, как работают обычно. Так что же: получается, что я не повинен в отступничестве? И да, и нет. Мне дали возможность отступить, и даже подтолкнули к этому. Однако право свободного выбора — это право свободного выбора. Я мог не войти в распахнутые передо мной врата Бездны. Но всё-таки вошёл. Почему? Потому что Природа не отделена от человека. Каждый из нас — её частица. И в тот момент я как человек обладал правом выбора, — но как частица Природы, ощущающая, пусть даже на подсознательном уровне, её законы и нужды, я знал, что именно от меня требуется, и сделал это. Иначе говоря, это был поступок не человека как автономной единицы, решающей собственную судьбу, а поступок человека как Природы, понимающей и решающей гораздо более масштабные задачи. Поэтому с одной стороны я виноват, поскольку сделал свой выбор и совершил отступничество. С другой стороны, выбор тогда делало нечто большее, чем я, — нечто большее, чем отдельная личность. И сделан был именно тот выбор, который был тогда необходим. Сожалею ли я о нём? Да, — как сожалею о любой из своих ошибок. Но поскольку в тот момент ошибка была необходима, я просто принимаю всё как есть. Произошло то, чему следовало произойти. Однако задумался об этом и понял это я много позже.
А тогда, в Бездне, мне было не до анализа произошедшего. Всё моё существо было наполнено неописуемой болью. «Неописуемая» — в данном случае не фигура речи. Страдания, когда Бездна раздирает, выворачивает и высасывает тебя, а ты не можешь не только умереть, но даже просто потерять сознание, действительно не поддаются описанию. Их невозможно и вспомнить в полной мере. Смертное человеческое тело не может перенести такой боли; даже одно отчётливое воспоминание о ней убило бы меня. Поэтому то, что я могу сейчас вспомнить о Бездне, — это лишь слабый отзвук той боли, её многократно приглушённое эхо, какая-то ничтожная доля тех ощущений. Но и этой ничтожной доли достаточно. При любой попытке сосредоточиться на этих воспоминаниях я начинаю чувствовать, вероятно, нечто схожее с ощущениями человека, заживо горящего на костре, — и отчётливо понимаю, что углубление в эти воспоминания убийственно для рассудка и тела. Таково далёкое эхо Бездны. В ней же самой я провёл около 1000 лет. Пытаться подробно рассказать об этом не имеет смысла; да и вряд ли я смог бы. Скажу лишь, что один раз я почувствовал рядом с собой присутствие Дракона. Даже не то чтобы его самого, — так сказать, в энергетической плоти. Это было, скорее, ощущение его пристального взгляда, когда в некий момент он сосредоточил на мне своё внимание. Описать, каково это было, также едва ли возможно. Но враждебным этот взгляд не был. Скорее, он был заинтересованным.
Выйдя из Бездны, — фактически, будучи попросту вытолкнут из неё по прошествии должного времени, — я долго приходил в себя. В этом мне помог мой страж, который всё это время дожидался моего освобождения. Он-то и разъяснил мне то, что я уже изложил выше, — то есть почему я оказался в Бездне и для чего это было нужно. И ещё он поставил меня перед новым выбором. Теперь мне предстояло решить, вступить ли на путь нового долженствования, начинавшийся от края Бездны.
Итак, я оказался перед выбором: продолжать ли обычный путь, или принять на себя то долженствование, ради которого была пройдена Бездна. Впрочем, выбор этот был чисто формальным. Пройдя то, что прошёл, узнав то, что узнал, и поняв то, что понял, я не мог сделать иного выбора, чем в пользу долженствования. Я знал это; и страж, предложивший мне выбор, знал, каким будет мой ответ. Но выбор должен был быть предложен, — потому что это был вопрос свободного волеизъявления, и у меня должна была быть возможность отказаться.
Когда я сказал стражу о своём решении, он повёл меня за собой, и мы очутились в неком месте, подобном широкой горной долине, залитой ярким, но в то же время мягким, не слепящим светом, который ощущался моим энергетическим телом примерно так же, как физическое тело ощущает прикосновение тонкого тёплого шёлка. Кроме нас там были ещё несколько человек и других существ. В одном из людей я узнал своего прежнего Учителя, Шер-Андера, — узнал, хотя прежде никогда не видел его воочию. Он приблизился и встал рядом со мной и стражем. И тогда перед нами возник человек очень высокого роста, обликом и одеждой, как сказал бы я сейчас, напоминавший древнего египтянина, с кожей необычного фиолетово-медного цвета. От него не исходило сияния, — но было чёткое ощущение, что он сияет. Я ощущал это всею своею сущностью. И я знал, что это — Бог Мудрости. Конечно, лишь в одном из своих проявлений. Элементалы таких масштабов, проницающие собою всю энергетическую Вселенную и, к тому же, не имеющие определённого облика, но желающие показать себя кому-то, придают тот или иной облик той части своей сущности, которая присутствует в нужном месте. В данном случае Бог Мудрости принял тот же облик, в каком видел его мой предшественник, — пророк, известный теперь как Гермес Трисмегист. Когда он появился перед нами, все, люди и не люди, почтительно склонились. Я склонился тоже, испытывая огромное благоговение. Затем страж снова повторил мне то, что уже говорил ранее о долженствовании и выборе, и предложил объявить своё решение. Я сделал это. Тогда Бог Мудрости улыбнулся, поднял руку в приветственном, и в то же время как бы успокаивающем жесте, и исчез. И я тотчас увидел себя в другом месте, и со мною рядом был страж.
Рассказ о том, что я видел и пережил во втором мире, мог бы составить целую книгу; и воспоминания продолжают приходить, постоянно пополняясь. Полторы тысячи лет я ожидал своего часа, — то есть момента, когда должен буду приступить к исполнению своего долженствования. Всё это время я путешествовал в мире энергии, познавал, общался. Не стану и пытаться рассказать здесь об этом, даже в общих чертах. Скажу лишь несколько слов.
Как это обычно и происходит с теми, кто переходит во второй мир, я много беседовал со своим стражем. Несмотря на то, что я ещё при жизни немало узнал о посмертии от Шер-Андера, помощь стража всё равно была неоценимой. Виделся я и беседовал и с самим Шер-Андером. Это было удивительно: видеть перед собой Учителя, ранее бывшего для меня лишь бесплотным голосом, говорить с ним лицом к лицу. Мы испытывали в какой-то мере схожие чувства. Я сожалел о своей ошибке, сиречь об отступничестве, — хотя и знал теперь подоплёку событий. Он сожалел о своей ошибке, сиречь о том, что взялся тогда учить будущего отступника, — хотя тоже знал подоплёку, и понимал, что его тогдашнее горячее стремление найти ученика среди живущих в мире материи тоже возникло неспроста. Всё складывалось в единую картину подготовки того, что было необходимо миру и людям, и потому должно было произойти.
К сожалению, некоторые элементы этой картины мне пока ещё не удалось вспомнить и понять. Например, Шер-Андер должен был, не перерождаясь, тысячу лет ожидать моего освобождения из Бездны, затем ожидать дня, когда я вновь обрету плоть, затем ожидать начала откровения, — и лишь после этого он вновь обрёл возможность продолжить свой путь через новые перерождения. Почему так? Не знаю. Хотя, вероятно, знаю, — но не помню. Как не помню и ещё одной важной для меня вещи. Когда мне было предложено принять на себя долженствование, меня предупредили, что в случае согласия я навсегда утрачу возможность перерождаться. Я уже знал, что каждый человек перерождается до того момента, пока через познание и совершенствование не поднимется на такую ступень духовного развития, когда необходимость в перерождениях отпадает. Тогда он ещё некоторое время пребывает в мире энергии, завершая свой путь, а затем переходит в мир Духа. Мне же предстояло после своего последнего рождения и последней смерти продолжать и завершать свой путь только в мире энергии. Причём оставаться там, не имея возможности перейти также и в мир Духа, мне предстояло до тех пор, пока свой путь не завершит всё человечество. То есть пока не умрёт последний человек в мире материи, и затем — пока последний человек не перейдёт из мира энергии в мир Духа. Почему? Вследствие каких закономерностей всё должно быть именно так? Опять же, не помню. Но тогда я, вероятно, знал это. И я согласился, принял это как необходимость. Принял, понимая, как тяжело мне будет продолжать свой путь, — много тысяч лет без перерождений, наблюдая взлёт и последующее угасание человеческого рода, и в конце оставшись в полном одиночестве, последним человеком в двух мирах. Так и будет. Но уже сейчас мне невыразимо тяжело от мысли, что я никогда больше не вернусь в этот мир, — во всяком случае, во плоти. Он прекрасен, и я люблю его. Я ещё не умер и не утратил его навсегда, — а уже мучительно тоскую по нему. По земле и небу, по воде и зелени, по дыханию и человеческому прикосновению. И даже по боли, которой здесь так много, но которая тоже является частью жизни. Мир энергии бесконечно больше и разнообразнее, чем наша планета; свобода перемещения в нём тоже не в пример больше; хватает в нём и своих радостей, и своих горестей. В нём много того, чего не может дать мир материи. Но в нём нет того, что может дать только мир материи, и чего у меня больше никогда уже не будет. Эта потеря ощущается как нечто гораздо более тяжёлое, чем сама неизбежность смерти.
Виделся я также с тем, кто в индийской жизни был моим двоюродным братом. Один раз соприкоснувшись с Учением, он уже не хотел оставить этого пути, — и ждал во втором мире, и нашёл меня после того, как я освободился из Бездны. Мы много раз встречались и беседовали. Я чувствовал свою вину перед ним, и был счастлив возможностью дать то, чего недодал ему раньше. Потом он ушёл в новое рождение; когда же он вновь возвратился в мир энергии, мы продолжили наши беседы.
Встречался я и с людьми из Вечного Народа. И не только с людьми. Принадлежа к нему сам, я был вхож в его твердыню, находящуюся поблизости от Земли. Это человеческая твердыня; но в ней нередки гости из других твердынь Вечного Народа, находящихся подле других планет. Соответственно, обитатели нашей твердыни также могут посещать их. Мне неоднократно доводилось делать это, — благо, языкового барьера во втором мире не существует, а навыки практически мгновенного перемещения на огромные расстояния дают обширные возможности. Эти возможности трудно вообразимы. Если способности и уровень подготовки позволяют, то можно путешествовать не только за пределы Солнечной системы, но и за пределы галактики, и даже дальше. Теоретически, возможно достигнуть границ Вселенной и, образно выражаясь, постучаться в её оболочку изнутри. Однако так далеко я не забирался.
Неудивительно, что подобные переживания и такой опыт порой оставляют своеобразный след в психике. Например, я с детства, сколько себя помню, не мог спокойно смотреть на фотографии галактик. Если я задерживал на таком изображении взгляд хотя бы на пару секунд, у меня начинала кружиться голова, и возникало ощущение падения туда, в него; оно как будто затягивало меня. Не скажу, что было страшно; но это было жутковато, потому что непонятно. И вот только относительно недавно я вспомнил то, чем был порождён такой странный эффект. Оказывается, находясь в мире энергии я любил, выйдя за пределы нашей галактики, любоваться ею со стороны. А вокруг простиралось космическое пространство с россыпью сияющих огней. Но только это были не звёзды, а другие галактики. При воспоминании об этом захватывает дух. Я уже сейчас предвкушаю, как однажды снова буду наслаждаться этим невероятным зрелищем. И я помню, что тогда, стоило лишь мне сбросить волевую концентрацию, удерживавшую меня на месте, я начинал падать в галактику. Она притягивала меня, как магнит. Так происходило потому, что там, в ней, находилась Земля, — планета, частью которой я являюсь. Плоть каждого человека — материя родной планеты, а его энергетическое тело — частица энергетического тела Земли, которое притягивает свою временно отделившуюся частицу, стремясь восстановить нарушенное единство. И я, отдаваясь на волю этого притяжения, совершал головокружительный полёт-падение в галактику, к Земле, подобно рыбе, в прыжке взмывшей над поверхностью воды, и затем вновь возвращающейся в свою стихию. Подсознательная память об этом и была причиной моей странной реакции на фотографии галактик.
У каждого человека хранится в подсознании память о том, что происходило с ним не только в прошлых жизнях, но и в мире энергии. У многих это как-то проявляется в ощущениях и поведении. Возможно, именно этим, а вовсе не психическими болезнями, объясняются странности, свойственные некоторым людям и порой приводящие в недоумение их самих.
Подобные вещи позднее перейдут в компетенцию психологии как науки. Сейчас она не учитывает психологических последствий прошлых жизней и посмертия, тем самым практически лишаясь возможности правильно интерпретировать многие явления человеческой психики. Ведь человек, на самом деле, гораздо более сложное явление, чем личность, существующая только здесь и только сейчас, и за плечами у него опыт побольше, чем опыт одной жизни, в рамки которой его втискивает психология. Следовательно, она не в состоянии понять и объяснить человека. Однако это не её вина. У современной психологии просто нет средств для того, чтобы получать информацию такого рода, — об опыте прошлых жизней и посмертия. Гипноз? Вряд ли. Слишком ненадёжно, авантюрно. Гипноз как явление сам ещё недостаточно объяснён и исследован, — поэтому достоверность получаемой с его помощью информации заведомо вызывает сомнения. Как же можно до неё добраться научными методами, с гарантией достоверности? Не имею представления. Над решением данной проблемы будут ломать головы психологи и психоаналитики будущего. А я с интересом посмотрю из второго мира, как это у них получится.
Полторы тысячи лет — долгий срок. Долгий даже для мира энергии, где ход времени воспринимается немного иначе, чем здесь. Обычно человек проводит во втором мире несколько сот лет (в среднем, около 500). Но это пребывание не кажется таким уж долгим и обременительным. Ты не видишь смены сезонов и не стареешь, более свободное и быстрое передвижение даёт огромные возможности, новые впечатления бьют ключом, познание многого нового об окружающем мире, его насельниках и о самом себе не даёт соскучиться и всё время открывает те или иные перспективы. Века там проходят, как здесь десятилетия, — то есть всё это не кажется слишком долгим. И уже назревшая необходимость идти в новое рождение, бывает, оказывается неожиданной новостью. И всё же пятнадцать веков — это много. Мною это ощущалось очень остро. Во-первых… Нет: во-вторых, потому, что грядущее рождение должно было стать для меня последним. Всегда тяжело — а для меня так и вовсе мучительно, такой уж у меня характер — ожидать чего-то очень хорошего, зная, что это будет в последний раз. Ты и хочешь этого, и в то же время стремишься оттянуть этот момент, чтобы не утратить того, чего хочешь и ждёшь. Потому что потом это не повторится уже никогда, и тебя заполонит чувство утраты. Со мной было именно так. Я хотел, чтобы моё последнее рождение было отложено на как можно более долгий срок; но само время ожидания было мучительным, ибо это было ожидание невосполнимой потери. Перед смертью не надышишься… А как сказать о том, что чувствовал я? Не могу подобрать слов.
Ну а во-первых, — редкий случай, когда «во-первых» идёт после «во-вторых», — было тяжело понимать, что там, в мире материи, сейчас назревает то, в результате чего понадобится откровение, к которому я готовился. Тяжело понимать, что ход событий клонится не в лучшую сторону, и кризис практически неизбежен. Я часто посещал Землю, подолгу наблюдая жизнь людей и следя за развитием событий. Сказать, что это было увлекательно, значит не сказать ничего. Но это не был развлекательный аттракцион. Скорее, нескончаемая драма, часто переходившая в трагедию. И к этому всегда ещё примешивался вкус горечи. Потому что я уже примерно представлял себе, к чему всё придёт.
Когда я освободился из Бездны, на Земле было раннее Средневековье. Наблюдать мир людей я начал именно тогда, именно тогда получил от этого первые яркие впечатления, увлекающие и зачастую горькие. Воспоминания об этом прояснили для меня ещё один момент моей жизни. Я увлекаюсь историей, люблю её; к тому же, она необходима мне для работы. И меня всегда особенно привлекало и завораживало Средневековье, его жизнь, его культура, литература, его люди. Теперь уже понятно, в чём тут дело: эта эпоха для меня — в некотором смысле, первая любовь. Именно её жизнь была у меня перед глазами добрую тысячу лет; именно её песни я слушал; именно её людям сопереживал. Всё это осталось несмываемым отпечатком на моей душе. Ну а в конце этой эпохи моим вниманием почти безраздельно завладела Япония. И это тоже оставило на моей душе отпечаток. Мне мила Япония, — но не нынешняя, по-современному урбанизированная, технологичная и погрязшая в прозападной поп-культуре, а старая Япония самураев. Такая, какой её можно увидеть в фильмах-дзидайгэки. Но фильмы есть фильмы; а мне довелось видеть ту жизнь и тех людей воочию. Это было гораздо увлекательнее, драматичнее и страшнее.
Один из самых страшных — страшнее была, наверное, только Бездна — моментов моего пребывания в мире энергии также был связан с Японией. Только произошло это гораздо позже, уже незадолго до моего рождения. Я говорю о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки. Взрыв атомной бомбы отозвался в мире энергии чудовищным всплеском боли, ужаса и горя. Это была взрывная волна человеческих страданий и боли самой Природы, из своего эпицентра пошедшая вокруг всей планеты и дальше, в пространства космоса. В тот момент я находился вблизи Земли, и моё энергетическое тело ощутило это так, словно через него прошла волна огня или жгучего яда, вызвавшая болезненную судорогу. И это было только начало. Хиросима продолжала фонтанировать энергетикой страдания, потоки которой обтекали планету, словно обдавая её кровью. К их эпицентру тотчас устремились энергетические паразиты самых разных пород, — из тех, которые питаются энергетикой отрицательных эмоций и страдания. Для них это был самый настоящий пир. Но туда устремились не только чудовища. Множество людей и других осознающих, ощутивших то же, что и я, поспешили к месту событий, — иные из любопытства (да, во втором мире тоже хватает таких), иные просто потому, что такая трагедия не могло оставить их равнодушными. Помочь там было нечем — и потому оставалось лишь смотреть на происходящее, сопереживая жертвам ядерного удара. Я оказался там ещё до того, как рассеялся ядерный гриб, видел горящие и исходящие дымом развалины, трупы и ужас живых. И видел, как люди нескончаемым, казалось, потоком буквально вышвыривались в мир энергии из своих обгоревших, раздавленных и поражённых радиацией тел, — ошеломлённые, безголосо кричащие, корчащиеся от боли, которая уже осталась позади, умерла вместе с телами, но всё ещё ощущалась ими как продолжающаяся. Они появлялись — и сразу же уходили в новую боль, погружаясь в слой личного ада. Оставались лишь фигуры их стражей, замерших в немой скорби. Иное определение всему этому, кроме как всё сминающий и выворачивающий наизнанку ураган боли и страха, найти сложно. И когда этот ураган пошёл на спад, последовал второй удар. И волны боли вновь пошли вокруг планеты, как цунами, и весь ужас повторился.
Всё это также не прошло для меня бесследно. Конечно, родившись, я уже не помнил тех событий. Но всё же я был там и видел, что происходит в обоих мирах в эпицентре ядерного взрыва. Это осталось в глубинной памяти и выплёскивалось в подсознание страхом ядерной войны. С тех пор, как я подрос настолько, чтобы начать понимать смысл передававшихся по телевидению сообщений о ядерных испытаниях, она стала для меня самым большим кошмаром. При одной мысли о ней что-то внутри меня холодело и напрягалось в удушающем страхе, близком к панике. Избавиться от него мне удалось лишь годам к шестнадцати, при весьма необычных обстоятельствах. Однако это уже другая история.
Ну а тогда, после Хиросимы и Нагасаки, я ещё отчётливее увидел и понял с какой-то новой, пронзительной ясностью, к чему идёт дело. И понял, что ожидать мне осталось уже недолго. Так и вышло. Вскоре (по меркам мира энергии) я почувствовал, что время пришло. Что это за чувство, не опишешь в привычных словах. Разве что очень приблизительно. Немного похоже на то, как ощущается приближающийся отъезд из дома, где ты прожил много лет. Ты знаешь, что остались считанные месяцы, потом недели, потом дни, и чувство такое, словно постепенно отрываешься от того, во что врос за всю жизнь, как дерево корнями врастает в почву. Одновременно с этим чувствуется словно бы нарастающее притяжение куда-то, — и ты знаешь, что в какой-то момент оно сорвёт тебя с места и унесёт, и сопротивляться ему бесполезно.
Незадолго до ухода в новое рождение я в последний раз увиделся с Шер-Андером, и он напутствовал меня. Затем я в последний раз увиделся с тем, кто в прошлой жизни был моим двоюродным братом, и попрощался с ним. Но мы простились, в буквальном смысле слова, до скорой встречи. Потому что ему была дана возможность родиться примерно в то же время и в том же городе, где предстояло родиться мне, — чтобы он мог первым вступить на путь Учения. И когда через несколько лет пришло его время, Шер-Андер встретился с ним и предложил в последний раз подтвердить своё решение следовать за Учением, после чего дал надлежащее напутствие.
А я, посетив места, которые хотел посетить, и попрощавшись с теми, с кем хотел попрощаться, возвратился в твердыню и стал ожидать момента, когда неодолимая сила увлечёт меня в последнее рождение. Это значило — момента, когда в нужном городе подходящими родителями будет зачат ребёнок. Почему именно в конкретном городе? Меня периодически спрашивают об этом; а было время, когда я сам обращался с этим вопросом к своему Учителю, Эмере (Гермесу). От него я узнал, что первое откровение, состоявшееся, вероятно, более 270000 лет назад, произошло на том месте, где сейчас находится мой город. Оно оставило особую энергетику, которая не исчезла до сих пор, — потому что было первым. Последнее откровение также породило уникальную энергетику. Можно сказать, что кольцо времён замкнулось; череда откровений заканчивается там же, где началась. Моя смерть поставит в этом сопряжении последнюю точку. Когда я умру, город Гомель превратится в место огромной силы, где энергетика Учения и Вечного Народа будет изливаться в мир.
Я ожидал день за днём, ощущая, как нагнетается некое напряжение и назревает (не знаю, какое ещё слово подобрать) момент перехода. Но самого момента я осознать не успел. Его никогда не успеваешь уловить и осознать. Всё внезапно исчезает и сознание угасает. И следующие впечатления — это уже впечатления ребёнка, взирающего на мир новыми глазами.